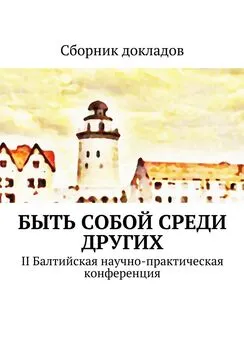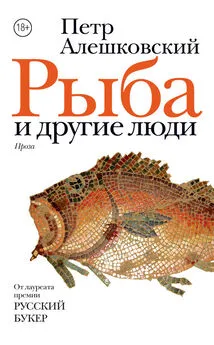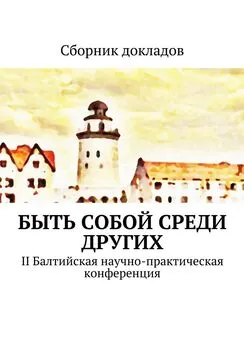Юз Алешковский - Средь других имен
- Название:Средь других имен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-239-00920-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юз Алешковский - Средь других имен краткое содержание
Произведения, не вошедшие в настоящий сборник, будут включены в последующие выпуски.
Средь других имен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

СРЕДЬ ДРУГИХ ИМЕН
Может быть, через пять поколений,
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.
Анна БарковаВл. Муравьев. «…По более глубокой и существенной потребности…»
В числе героев повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — повести, которая может быть названа поистине энциклопедией лагерного быта, есть и поэт — «студент литературного факультета, арестованный со второго курса», Коля Вдовушкин.
Солженицын описывает лагерь конца сороковых — начала пятидесятых годов — последний период существования ГУЛАГа. Но поэт-заключенный — характерная фигура для всех этапов истории этого учреждения. Поэты вместе с народом с самого начала шли тем же страстн ы м путем необоснованных политических репрессий: одни попадали в тюрьмы и лагеря уже будучи поэтами, порой их и брали за то, что они были поэтами, другие становились поэтами в заключении, в жестоком, бесчеловечном рабстве ГУЛАГа, на грани жизни и смерти.
Безусловно, когда-нибудь, и, наверное, в недалеком будущем, будет написана обширная и обстоятельная история поэзии, которая создавалась теми, кого в официальных государственных бумагах обозначали аббревиатурой З/К, будут названы имена сотен поэтов, исследованы их биографии и творчество. Но это в будущем, пока же необходимо просто собрать материалы — тексты, документы, свидетельства, факты и предания, потому что в большинстве своем это поэзия рукописная и устная. Такова задача и настоящего сборника. Он не исчерпывает темы и даже не раскрывает ее более или менее полно, он ее начинает: это — первая антология лагерной поэзии.
Лагерная поэзия — не какая-то самостоятельная, изолированная, замкнутая в себе область, она — часть нашей литературы, часть общей культуры народа, эпохи. Поэты, создававшие ее, прекрасно осознавали это и верили, что со временем их стихи перестанут быть тайными и вольются в поток общенародной литературы.
Поэты, на долю которых выпала судьба испытать репрессии, обращались к тем проблемам и мучались теми вопросами, на которые мы пытаемся найти ответы сейчас, десятилетия спустя, поэтому их поэзия одновременно — прошлое и современность, история и злоба дня, свидетельство о минувшем и пророчество о будущем, завещание и предупреждение. Эти стихи писались, конечно, о себе и для своего поколения, но еще более для тех, кто будет жить потом, для следующего, второго, третьего, пятого поколения — одним словом, для тех, кто сумеет услышать и понять и завещание, и предупреждение.
Простите, строгие эстеты,
Мои грехи. Я знаю всё.
Увы! Тематику поэта
Определяет бытиё.
…Пишу о жизни в рудниках,
О пайках, о бушлатах рваных,
О грубой власти кулака,
О жалком племени зэка.
Многомильонно населенье
Немого лагерного дня.
Пишу о мертвом поколенье,
О людях, смолкших навсегда.
Пишу во имя тех — кто живы,
Чтоб не стоять им свой черед
Толпой угрюмо-молчаливой
У темных лагерных ворот.
Начальные страницы истории лагерной поэзии, как и любой другой истории, мифичны. Но исторический миф — это не только миф, но и символ. Таким начальным мифом лагерной поэзии является стихотворение, которое издавна ходит в списках как стихотворение Н. С. Гумилева, будто бы обнаруженное на стене камеры, в которой он сидел перед расстрелом:
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел Твой над обелиском,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным,
Знаю — сгустком крови черным
за свободу я плачу.
За стихи и за отвагу,
за сонеты и за шпагу,
З наю, строгий город мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.
Почти идиллической представляется картинка из очерка Н. Литвина «Зима во льдах», рассказывающего о Соловецких лагерях Особого назначения ОГПУ середины двадцатых годов, знаменитых Соловках, — как на общих работах, на лесоповале «под грохот топоров, глотая куски прозрачного снега, один только лесоруб-интеллигент в четверть часа своего отдыха замерзшими пальцами, роняя карандаш в снег, царапает лирические рифмы лесного дня:
Желтый день блестит пахуче…»
Но уже в тридцатые годы положение резко изменилось. Лев Николаевич Гумилев рассказывал, что на вопрос, можно ли ему писать, следователь ответил: «Прозу можно, стихи нельзя». Сын Н. А. Заболоцкого вспоминает такой эпизод из биографии отца:
«Случилось это где-то на Дальнем Востоке в сравнительно благополучное время лагерной жизни. Начальник колонны или надзиратель выстроил заключенных в ожидании смотра начальником лагеря. И вот он появился — человек решительный, жестокий, но просвещенный. Он знал, что у него отбывает срок заключения поэт Заболоцкий, помнил его в лицо и зла ему не желал. Он подошел к строю, узнал Заболоцкого и, будучи в благодушном настроении, спросил у непосредственного начальника:
— Ну что, как там у тебя Заболоцкий? Стихи не пишет?
— Заключенный Заболоцкий замечаний по работе и в быту не имеет, — отрапортовал начальник подразделения. И, усмехнувшись, добавил: — Говорит, стихов никогда больше писать не будет.
— Ну то-то. — Обход продолжался».
Елена Владимирова сочиняла поэму «Колыма» (в воспоминаниях она называет ее «северная повесть») в последние военные — первые послевоенные годы.
«Раз уж речь зашла о северной повести, — вспоминает она, —расскажу, как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть… Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в глухой район, небольшую долину, со всех сторон замкнутую сопками. Такая безнадежность была во всем, что я задумалась: как, на что истратить остаток сил и дней? Работоспособность умственная, это я лишь теперь понимаю, была исключительная, в голове я могла делать все, что хочу, и при любых обстоятельствах. И я решила написать повесть, охватывающую все виденное. Но писать, конечно, было нельзя. Я начала «писать» в уме. Понимала, нужно сохранить сделанное, а на свое долголетие не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни многое неосуществимое осуществляется. Решила найти молодую женщину, которая возьмет на себя сохранить «написанное». Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. Вернувшись с лесоповала, мы садились где-нибудь во дворе, делая вид, что просто разговариваем, и занимались нашим делом. Одно слово, услышанное посторонним, могло погубить обеих.
Интервал:
Закладка: