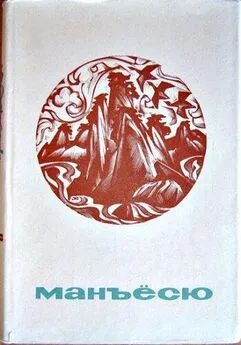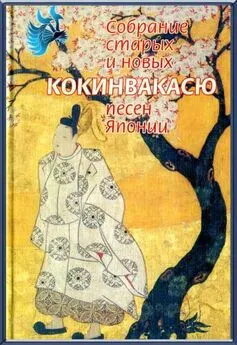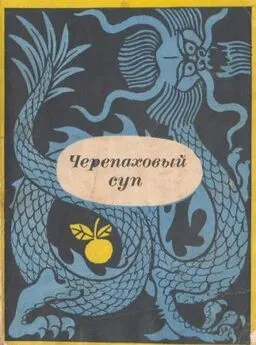Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология
- Название:Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ленинградского университета
- Год:1988
- Город:Л.
- ISBN:5-288-00129-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология краткое содержание
Издание сопровождается вступительной статьей и комментариями и рассчитано на самый широкий круг любителей поэзии.
Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Известный русский ученый, акад. А. Н. Веселовский назвал книгу Петрарки «поэтической исповедью». [9] См.: Веселовский А. Н . Петрарка в поэтической исповеди «Canzoniere». СПб., 1912.
Как и «Новая жизнь» Данте — это рассказ о любви к женщине, о любви неразделенной. Но между этими двумя произведениями есть и принципиальное различие. Беатриче для Данте — не только земная женщина, но и символ истины и веры, воплощение божественного начала на земле. Лаура у Петрарки — живая и реальная женщина, ее красота — это и есть красота реального мира. Любовь, пробужденная Лаурой, осталась безответной, но это вполне земная страсть. Жизненно правдив и образ лирического героя, сквозь дымку воспоминаний которого читатель созерцает и его любимую, и окружающую их природу, и весь многокрасочный земной мир; это вполне реальный человек вполне реальной эпохи — начала Возрождения.
Да, творчество Петрарки — только начало Возрождения, и поэт не может забыть, что любовь к земному миру почитается греховной. Но поэту не свойственно противопоставление несовершенства земного существования идеальной красоте загробного мира: истинно прекрасна, по его представлениям, именно земная жизнь. Поэтому источник противоречивых чувств, обуревающих Петрарку, — в ощущении полноты бытия, богатства и полнокровности земной любви. В сонетах сборника всепоглощающая радость реального существования, великолепно воплощенная в знаменитом 61-м сонете («Благословен день, месяц, лето, час…»), часто отступает перед печалью, оборачивается тревогой и даже отчаянием. Но и в тех сонетах, которые целиком построены на резком столкновении противоположных сил (как, например, столь же знаменитый сонет 134-й «Мне мира нет, — и брани не подъемлю…»), в финале возникает синтез, гармония противоположностей. Этой же гармонии, в конечном счете, служат и все прочие поэтические приемы у Петрарки: игра на созвучии имени любимой со словами lauro (лавр), l’aura (дуновение, ветерок), параллелизмы, повторы и пр.
В творчестве многих последователей Петрарки, и в Италии и в других странах Запада, эта гармония нередко нарушается, выпячивается какая-нибудь одна сторона наследия Петрарки. Так, у него одухотворенное и чувственное начала любви существуют в органическом единстве, а некоторые петраркисты под влиянием неоплатонической концепции любви как выявления «божественных» задатков личности спиритуализуют любовное чувство. Другие, как пишет известный советский исследователь Ю. Б. Виппер, придают любви «оттенок психологически и интеллектуально утонченной, но условной и рассудочной игры». Не менее часто односторонность восприятия наследия Петрарки проявляется в подчеркивании чисто формальных приемов, когда содержание стихотворения сводится к привычным стереотипным ситуациям и штампам в изображении чувств, а «формальное совершенство становится самоцелью». [10] Виппер Ю. Б . Поэзия Плеяды: Становление литературной школы. М., 1976. С. 148.
Обозревая пути развития сонета в Западной Европе, мы еще не раз столкнемся с творчеством подражателей Петрарки, которые лишь дискредитировали своего учителя, называя себя «петраркистами». Но был и другой, подлинный петраркизм. На опыт Петрарки ориентировались не только такие поэты, как Пьетро Бембо, который считал себя его прямым последователем, а в сущности был его эпигоном, но и такие, как Боккаччо, Лоренцо Медичи, Боярдо, Ариосто, Микеланджело, Торквато Тассо. Эти поэты не теряли своей индивидуальности, пример Петрарки вдохновлял их на поиски собственного пути.
Так, Джованни Боккаччо, прославившийся гениальным «Декамероном», и в любовных сонетах оставил свой заметный след. Он делает еще один шаг к постижению действительности, объявляя земную плотскую страсть возвышенной и благородной.
В конце XIV и в XV в. в Италии резко обостряются социальные конфликты. На смену городам-коммунам постепенно приходят синьории с явной тенденцией к перерождению в регионально-абсолютистские государства. В этих условиях внутри ренессансно-гуманистической культуры обнаруживается все более глубокое расслоение.
Отступление от демократических позиций раннего Возрождения можно обнаружить уже в творчестве некоторых флорентийских гуманистов первой половины XV в. Тенденции к аристократизации поэзии, в том числе и сонетного жанра, достаточно отчетливо проявляются во второй половине столетия в произведениях членов кружка Лоренцо Медичи, некоронованного правителя Флоренции. Правда, в сонетах самого Медичи, вдохновленных, как он сам о том поведал, любовью к Лукреции Донати, тенденции к аристократизации жанра еще противоречиво сочетаются с влиянием народной поэзии. Гораздо более очевидна аристократическая направленность поэзии в произведениях поэтов Феррары, в это время разделившей с Флоренцией славу центра ренессансного искусства.
Наиболее примечательные образцы этой изящной, изысканной, но несколько легковесной лирики содержат сонеты и канцоны Маттео Мария Боярдо, графа Скандиано. В стихах другого крупнейшего феррарского поэта Лудовико Ариосто этот налет аристократизма ощущается значительно меньше: он даже снимается свойственной поэту иронической оценкой аристократического идеала.
На протяжении всего XV столетия, однако, в сонетном жанре сохранялась и демократическая традиция. Так, флорентийский цирюльник Буркьелло (псевдоним Доменико ди Джованни) сочинял шутливые сонеты о будничных событиях городской жизни, а за обличительные сатирические стихи против диктатуры Медичи был изгнан из города. Одним из первых в своих сатирических сонетах Буркьелло прибегает к «неправильной» форме «хвостатого сонета». К этой же форме часто обращается на рубеже XV–XVI вв. другой флорентиец Франческо Берни. Резко отрицательно оценивая поэзию «петраркистов», Берни пародирует их приемы в особом жанре, названном по его имени «бернеско». В собственных сонетах поэт сводит счеты с личными врагами, резко обличает папство и тиранию, прославляет в противовес ханжеству и аскетизму земные наслаждения. При этом он чаще всего вызывающе нарушает сонетный канон.
Демократические тенденции характерны и для сонетов и мадригалов великого итальянского художника Микеланджело Буонарроти. Примыкая в начале творчества к «петраркистам», позднее он отошел от них. Восприняв и опыт Данте, и традиции народной поэзии, поэт-художник наполняет свои сонеты гражданским, антитираническим смыслом; он размышляет о творчестве и красоте, понимаемой им как проявление божественного начала в человеке, воспевает любовь, помогающую преодолеть страх перед старостью и смертью.
Уже в его творчестве появляются элементы трагического восприятия действительности. Трагическое начало еще больше усиливается в поэзии Торквато Тассо, жившего в эпоху острого кризиса гуманистического сознания, на закате Возрождения. В творчестве Тассо сталкиваются и не находят гармонического разрешения противоречия между жаждой земной любви, радостей жизни и религиозно-аскетическим идеалом. В результате классически строгая форма сонета, к которой стремится Тассо, нередко вступает в противоречие с содержанием, лишенным глубины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: