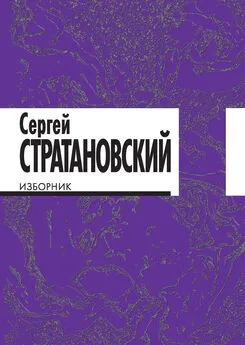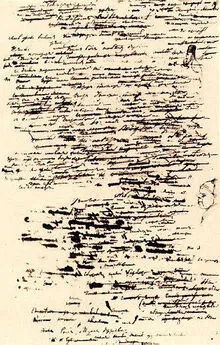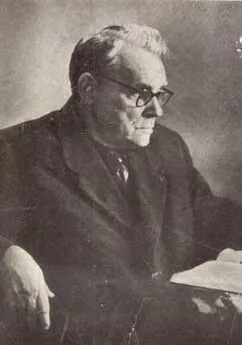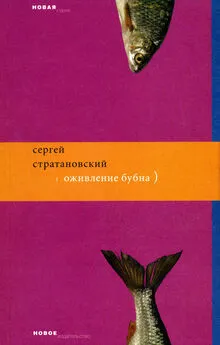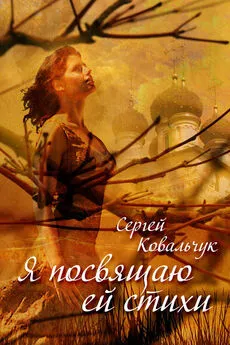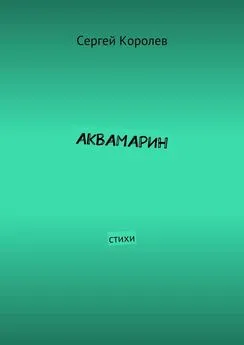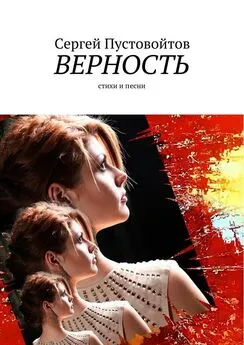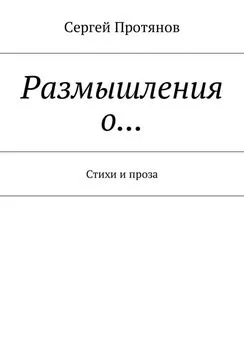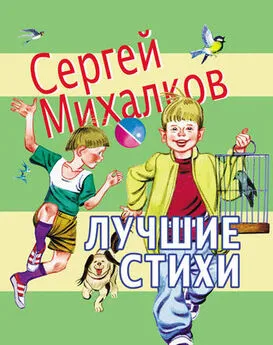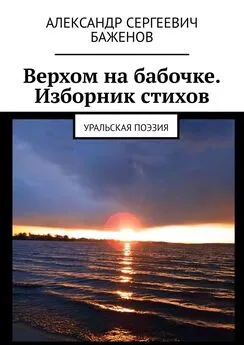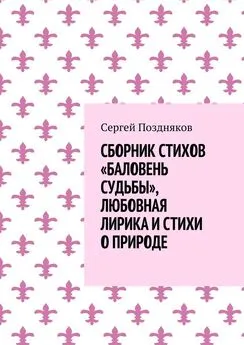Сергей Стратановский - Изборник. Стихи 1968–2018
- Название:Изборник. Стихи 1968–2018
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-352-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Стратановский - Изборник. Стихи 1968–2018 краткое содержание
Как и многие другие неофициальные поэты Ленинграда, посещал ЛИТО Глеба Семёнова. Стал известен благодаря публикации в антологии М. Шемякина «Аполлон-77». Около 40 стихотворений было опубликовано в антологии К. Кузьминского «У Голубой лагуны» (1983). Первая публикация на родине состоялась в сборнике «Круг» (1985).
Член Международного ПЕН-Центра (с 2001). Стипендиат Фонда Иосифа Бродского (2000).
«Свои первые стихи Сергей Стратановский написал в конце шестидесятых годов, и это уже были вещи сложившегося, совершенно оригинального автора», в 1970-е «вместе со стихами его соратников и друзей – Елены Шварц, Виктора Кривулина и Александра Миронова – они становятся едва ли не основным содержанием русской поэзии того времени в ее ленинградском изводе, самым чистым ее воздухом» (Михаил Айзенберг).
Лауреат Пастернаковской премии (2005), Премии Андрея Белого (2010), Премии Кардуччи (2011) и многих других.
Книги Стратановского переводились на английский, французский, итальянский, польский и другие языки.
Изборник. Стихи 1968–2018 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Был Стратановский и участником подпольных семинаров, активно публиковал стихи в возникших тогда неподцензурных журналах «37», «Часы», «Северная почта» и др., а с 1980 года издавал (вместе с Кириллом Бутыриным) журналы «Диалог» (вышло три номера) и «Обводный канал» (с 1981-го вышло 18 номеров, и формально это издание не закрывалось до наших дней). Понятно, что и первая его типографская публикация тоже отдавала крамолой – парижский альманах Михаила Шемякина «Аполлон-77» (1977)…
В подцензурной печати СССР стихи Стратановского появились в составе коллективного сборника «Круг» (1985), вобравшего в себя более трех десятков литераторов, представителей ленинградской «второй культуры». Издание это явилось компромиссным детищем ленинградского андеграунда и официальных структур, в том числе КГБ. Соблазном допуска в печать на родине власти надеялись отвадить бунтующую молодежь от публикаций в эмигрантской прессе. Под полуофициальной эгидой КГБ находился и инициировавший издание «Круга» «Клуб-81», членом которого Стратановский состоял с самого его основания. Все же «соглашение» между андеграундом и КГБ, как представляется сейчас, было достаточно формальным с обеих сторон: подготовленный «Круг-2» так и не вышел, а бо́льшая часть стихов Стратановского до начала 1990-х печаталась в русском зарубежье. Уже тогда их стали переводить на другие языки.
Так что суровую цену и творческую благодать своего пребывания в отечестве Стратановский знал и не отказывался от своей самостийности преднамеренно. Знал, чего лишен и чем жив.
Отличная от бытовой, поэтическая биография Сергея Стратановского определилась, помимо эзотерического детства, двумя факторами: бурной Пражской весной 1968 года и тихим царскосельским genius loci, в обнимку с которым эта «весна» переживалась. В разных модификациях, но антиномичность – культурного богатства и исторической нищеты, интеллектуального порыва и рутинной психологии, высокого мифотворчества и лубочной картинности и т. п. – есть тема, содержание и порожденная ими эстетика стихов Стратановского. Особенность его поэзии заключается в том, считал К. М. Бутырин, что «…она и интеллектуальная, „ученая“, и уличная (но не богемная!)» [6] Мамонтов К. [Бутырин К. М.] О стихах Сергея Стратановского // Обводный канал. СПб. 1981. № 1.
.
Для культуры в этом сопрягающем начала и концы знании существенно следующее: чем больше мы знаем, тем больше представляем, чего лишены, что потеряно. Точно так же в сугубо духовной сфере неопределимая содержательность веры достовернее любых исторически обусловленных вероисповеданий. Подобное отрицательное знание – краеугольный камень ранних сюжетов Стратановского: недовоплощенное и утраченное имеет в них право на воплощение наравне с бытующим, звучит в стихах поэта экзистенциальным порывом «из глубины», сохраняющимся и по сию пору. Так библейские мотивы – ими пронизана поэзия Стратановского в целом – обусловлены поисками затонувшей в советское время духовной Атлантиды.
Мышление, базирующееся на воспоминании – и из него исходящее, – для поэта может оказаться насущнее разрешения вопросов о конечном смысле бытия. Так говорят экзистенциалисты. А еще они говорят, что само бытие разорвано. Если чем-либо оно, по Стратановскому, для человека и скреплено, так это «атомами боли», перманентным источником пробуждения лирического чувства: «Может быть, Бог меня ищет, атомы боли даруя / Будничным, смирным вещам…» (1978).
В конце семидесятых – начале восьмидесятых для Стратановского как раз и наступило время «собирать камни». Те самые, какими поэт побивался:
«…Боль и побои терпи —
ведь ничто не дается задаром
Горе тебе – не за грех,
горе – за будущий дар»
Это обращение «суверенного» Бога к «суверенному» человеку – переживание, полностью соответствующее экзистенциальному опыту кьеркегоровского типа. И само стихотворение – завершение начатого много прежде цикла «В страхе и трепете».
Где человек, там – боль. В случае Стратановского это всегда еще и боль другого. Переживание, существенно отличающее внутренние коллизии стихов петербургского автора от коллизий, выражаемых большинством лирических поэтов. Особенно ярко они разработаны в стихах второй половины семидесятых – начала восьмидесятых, таких как «Трудно зарубцеваться…», «Дворовые игры», «Инициация», «Осквернители статуй», «Эрмитаж», «Террорист» и др. Вот, например, голос одного из «нищих духом», добравшихся до Эрмитажа:
Это все нам чужое и нашей тоски не развеет
По грядущему миру, простому как шар голубой
Не возьмут за живое амуры, венеры, евреи
Только ум искалечат, а нашу не вылечат боль
«Сознанье своей правоты», о котором писал Мандельштам, – свойство любого одушевленного существа, не только поэта.
Не скажу, к поэтической ли биографии, к бытовой ли это отнести, но вскоре после отрадной публикации на родине, «из тени в свет перелетая», Стратановский неожиданно куда-то канул. Начиная с 1986 года и до начала 1990-х из-под его пера не появилось, кажется, ни строчки. Слушал, должно быть, чего это все вдруг так разговорились? Или стало недоставать для вдохновения «мусора бытия», и поэт бессознательно ждал, какого горя еще придется хлебнуть?
«Хмурое утро» начала 1990-х перешло у Сергея Стратановского в «Тьму дневную», доселе неведомую. Новая ли жизнь началась? агония ли вчерашней? – никому, самому Богу неведомо. Ибо Он по-прежнему для поэта «суверенен»:
Кто Он там – мифом миф вышибающий
Затевающий в мире муру
То в Грядущую Мощь завлекающий
То ломающий грубо игру
То манящий лугами зелеными
То до взбрыка пытающий нас
Беспредельными мертвыми зонами
Над которыми космос погас
Распрощавшись с пунктуацией, видимо, не наблюдаемой во «тьме дневной», Стратановский пренебрегает формирующими строй речи знаками ради своевольной потребности обновления господствующей стихотворной просодии. Поэзия коварна – в своем перманентном отклонении от того, что данная эпоха канонизирует в качестве «положительного» и «поэтического», услаждающего душу. Со времен Гюго и Бодлера уклонение от «нормы», творческое ее преображение, посягательство на эстетически забронзовевшее принято называть «новым трепетом», «frisson nouveau». «Новый трепет» Сергея Стратановского спровоцирован его избыточным для поэта интеллектом, щедро выплескиваемым из «громокипящего кубка» на заплеванную прохожим людом мостовую. Юпитера волнует ровно то же самое, что и «человека асфальта». Как ни странно – новость.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: