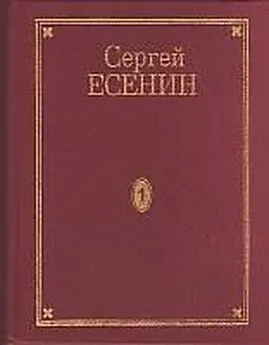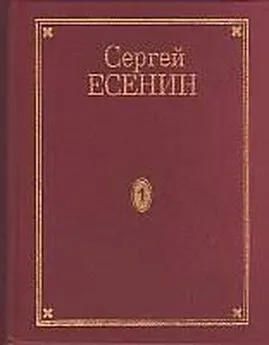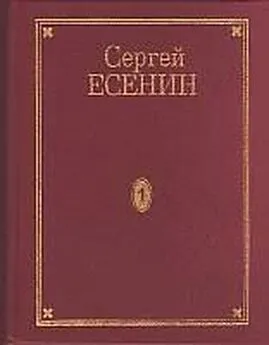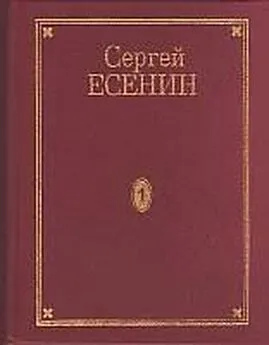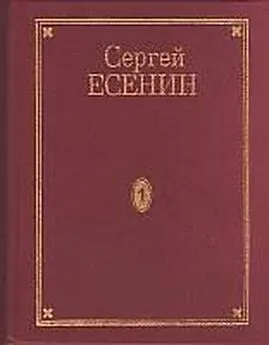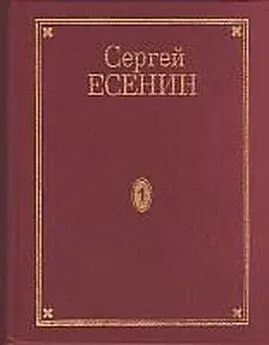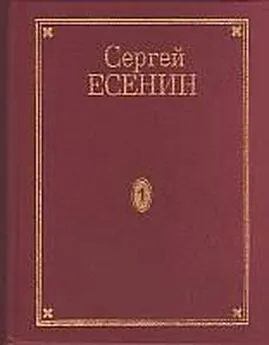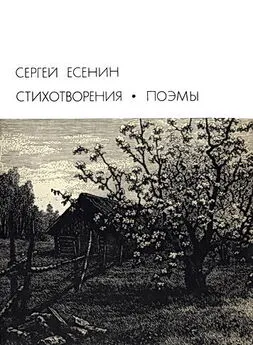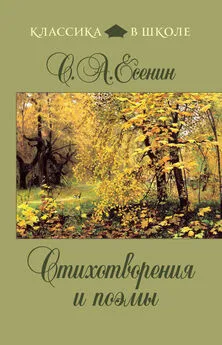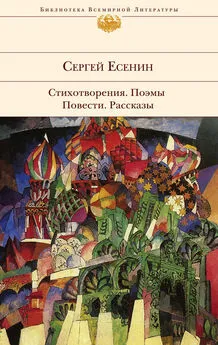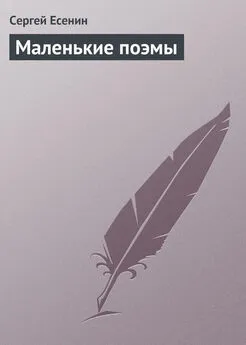Сергей Есенин - Том 3. Поэмы
- Название:Том 3. Поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москва, Наука, 1995-2002
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Есенин - Том 3. Поэмы краткое содержание
В третьем томе Полного собрания сочинений Есенина представлены поэмы «Пугачев», «Страна Негодяев», «Песнь о великом походе», «Поэма о 36», «Анна Снегина», «Черный человек».
В данной электронной редакции опущен раздел "Варианты".
http://rulitera.narod.ru
Том 3. Поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«В ноябре 1925 года, — писала С. А. Толстая-Есенина, — редакция журнала „Новый мир“ обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. Новых вещей не было, и Есенин решил напечатать „Черного человека“. Он работал над поэмой в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Рукопись испещрена многочисленными поправками…» (Восп., 2, 263). 14 ноября поэма была сдана в печать (о соответствующей календарной помете С. А. Толстой-Есениной см. выше, с. 682).
Вопрос датировки поэмы является дискуссионным. Большинство исследователей относят ее создание к 1922–1923 гг. Сопоставляя «Черного человека» с «драмой» «Страна Негодяев», П. Ф. Юшин делал вывод, что поэма была «крайне необходимой ‹…› подготовкой» для создания драмы и постановки темы „негодяев“ в творчестве Есенина и поэтому предшествовала „Стране Негодяев“» (в его кн. «Сергей Есенин: Идейно-творческая эволюция», М., 1969, с. 300). Л. Л. Бельская склонна к тому, что в «Черном человеке» Есенин более бескомпромиссно и решительно порывает с поэтизацией анархизма и индивидуализма, чем в «Стране Негодяев», и высказывает предположение, что поэма «Черный человек» не предшествовала пьесе, а была «завершена позже ее, вероятно, сразу после приезда на родину в 1923 году» (в ее кн. «Песенное слово»: Поэтическое мастерство Сергея Есенина, М., 1990, с. 141). Мнения о том, что поэма «Черный человек» в своем первоначальном виде сложилась уже к моменту возвращения Есенина из-за границы, придерживаются С. П. Кошечкин (сб. «В мире Есенина», с. 376–387) и Е. И. Наумов (в его кн. «Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха», Л., 1973, с. 218–221). К имажинистскому периоду творчества Есенина относит «Черного человека» А. М. Марченко (см. в ее кн. «Поэтический мир Есенина», с. 166–189), видя в поэме элемент литературной полемики. А. С. Субботин, основываясь на биографических параллелях (любовь и разрыв с Дункан, «образные отзвуки» батумской зимы: яблони в саду, снегопад и т. д.), датировал поэму 1924–1925 гг. (Субботин А. С. О поэзии и поэтике. Свердловск, 1979, с. 177–190).
Ю. Л. Прокушев в комментариях к поэме (Есенин III (1978), с. 282–284) и А. А. Волков в кн. «Художественные искания Есенина» (с. 405) принимают во внимание ту большую работу по окончательной отделке поэмы, которую Есенин провел 12–14 ноября 1925 г. и показывают, что время создания поэмы не укладывается в узкие хронологические рамки.
В библиографическом указателе В. В. Базанова и А. П. Ломана (ИРЛИ) время написания поэмы обозначено 1923-13 ноября 1925 г.
В наст. изд. принята дата, уточненная на основе документальных свидетельств С. А. Толстой-Есениной: ‹1923 —›14 ноября 1925 г. Поскольку сохранился текст лишь 1925 г., дата завершения становится основной, и поэма «Черный человек» помещается в конце тома.
Творческая история поэмы говорит о том, что Есенин вынашивал ее долго и мучительно. Основные идеи возникли задолго до написания и были подготовлены всем предшествующим творчеством поэта. Отсюда множество перекличек с собственными произведениями в тексте «Черного человека» (см. реальный коммент.) Ср. также в письмах к Г. А. Панфилову и М. П. Бальзамовой 1913–1914 гг. — « Я есть ты .‹…›Если бы люди понимали это… Не стали бы восстанавливать истину насилием, ибо это уже не есть истина». «Я ‹…› продал свою душу черту, — и все за талант»). «Формула „Я есть ты“, — отмечает польский исследователь Е. Шокальски, — это, по всей видимости, неточный перевод „великого изречения“ Упанишад „Там твам аси“ („Это ты еси“). ‹…› Есенин тут явно обращается к кругу представлений брахманизма и теософии» (сб. «Есенин академический», с. 165). Эти идеи были в поле зрения поэта во время работы над «Черным человеком».
В статье «Ключи Марии», написанной в 1918 г., Есенин, размышляя о «религии мысли нашего народа», находил в ней общее с мифологией Востока. Здесь же поэт обратил внимание на «скрытую веру в переселение души» и дал оригинальное толкование идее двойничества, получившей отражение в «Черном человеке» (см. т. 5 наст. изд., с. 186–220). Ср. также строки из стихотворения «День ушел, убавилась черта…» (1916. «Где-то в поле чистом, у межи, // Оторвал я тень свою от тела» — т. 4 наст. изд, с. 148–149) и «Метель» (1924. «Себя усопшего // В гробу я вижу» — т. 2 наст. изд., с. 151).
Символика зеркала и зеркальности, составляющая основу философского сюжета «Черного человека», также была всегда свойственна поэзии Есенина. Функцию зеркала выполняли «зеркало залива», «синие затоны озер», «озерное стекло», «оконное стекло»: «Отражаясь, березы ломались в пруду» (т. 1 наст. изд., с. 27); «Смолкшим колоколом над прудом // Опрокинулся отчий дом» (т. 1 наст. изд., с. 76); «В черной луже продрогший фонарь // Отражает безгубую голову» (т. 1 наст. изд., с. 159); «В синих отражаюсь затонах // Далеких моих озер. // Вижу тебя, Инония, // С золотыми шапками гор» (т. 2 наст. изд., с. 67); «Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива» (т. 5 наст. изд., с. 164) и др. Ср. также строки из стихотворения «Мне осталась одна забава…» (1923, «Но коль черти в душе гнездились — // Значит, ангелы жили в ней» — т. 1 наст. изд., с. 186), в котором, по мнению Э. Б. Мекша, дан христианско-апокрифический вариант идеи двойничества (сб. «Вечные темы и образы в советской литературе», Грозный, 1989, с. 52).
Французский исследователь М. Никё обратил внимание на то, что «для обозначения этой „нечисти“, этих „чертей“ есть как раз у Есенина специальный термин — аггелизм . ‹…› Термин „аггелизм“ появился у Есенина в 1918 году не без влияния С. Клычкова, который остро ощущал, особенно с войны 1914 года, наличие разрушительных сил в мире и в человеке» (РЛ, 1990, № 2, с. 195; см. также журн. «Cahiers du Monde russe et soviétique», 1973, XVIII (1–2), р. 33–60). Есенин рассказывал И. Н. Розанову: «Одно время сблизился с Сергеем Клычковым, поэтом очень близким мне по духу. Тогда я писал „Ключи Марии“ и собирался вместе с ним объявить себя приверженцем нового течения „Аггелизм“, не „ангелизм“, а через два „г“» (Розанов И. Н. Есенин о себе и других, М., 1926, с. 17). М. Никё писал, что «слово аггел , как ангел , восходит к греческому аггелос , но употребляется в противопоставлении слову ангел: аггелы — это „падшие ангелы“, соратники дьявола. Это слово встречается в церковнославянском переводе Библии („Михаилъ и аггли его брань сотвориша со зміемъ, и змій брася, и аггели его“ (Апокалипсис, XII, 7) и в духовных стихах (Безсонов П. Калики перехожие. Сб. стихов и исследований. М., 1863, Вып. 5, с. 129, 142, 201, 216; М., 1864. Вып. 6, с. 75, 77, 81). Оба эти источника хорошо знал Есенин ‹см. автобиографию 1924 г., т. 7, кн. 1 наст. изд.›. В церковнославянских текстах титло отличало „хороших“ ангелов от плохих („аггелов“): аг̃глъ (или ан̃глъ) — аггелъ (ангелъ)». Здесь же указано употребление слова аггел с данным значением у Н. Ф. Федорова («Вопрос о братстве или родстве…», прим. 20), А. П. Чехова («Винт»), М. Булгакова («Белая гвардия», гл. 19) и, что особенно важно, в письме Пушкина к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г., где он называл своего адресата одновременно ангелом и аггелом (РЛ, 1990, № 2, с. 195).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: