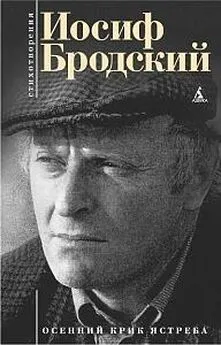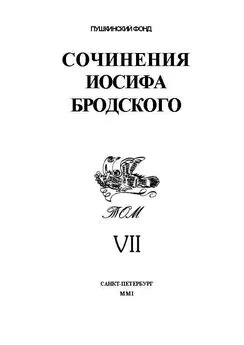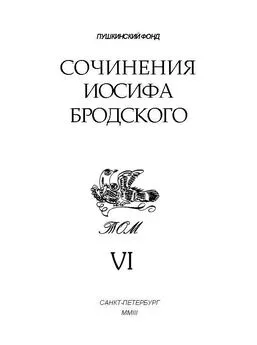Иосиф Бродский - Стихи (2)
- Название:Стихи (2)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бродский - Стихи (2) краткое содержание
Иосиф Бродский — один из крупнейших русских поэтов XX века. За свою недолгую, по нынешним представлениям, жизнь он возвел огромное здание стихотворений, поэм, а также произведений особого, им созданного жанра — «больших стихотворений». Верный традициям русских классиков — Пушкина, Лермонтова — Бродский стремительно расширял поле своей творческой работы. Он автор пьес, эссе, большинство из которых написаны на английском языке. В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью».
Комментарии Сергея Виницкого.
Стихи (2) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
спящей красавицы. Душный июль! Избыток
зелени и синевы — избитых
форм бытия. И в глазных орбитах —
остановившееся, как Аттила
перед мятым щитом, светило:
дальше попросту не хватило
означенной голубой кудели
воздуха. В одушевленном теле
свет узнаёт о своем пределе
и преломляется, как в итоге
длинной дороги, о чьем истоке
лучше не думать. В конце дороги —
бабочки, мальвы, благоуханье сена,
река вроде Оредежи или Сейма,
расположившиеся подле семьи
дачников, розовые наяды,
их рискованные наряды,
плеск; пронзительные рулады
соек тревожат прибрежный тальник,
скрывающий белизну опальных
мест у скидывающих купальник
в зарослях; запах хвои, обрывы
цвета охры; жара, наплывы
облаков; и цвета мелкой рыбы
волны. О, водоемы лета! Чаще
всего блестящие где-то в чаще
пруды или озёра — части
воды, окруженные сушей; шелест
осоки и камышей, замшелость
коряги, нежная ряска, прелесть
желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
водоросли — или рай для линий —
и шастающий, как Христос, по синей
глади жук-плавунец. И порою окунь
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон
и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.
Лето! пора рубах на выпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых
сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то приняв вас сослепу за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, прóбой
обескуражена и громоздка.
Лес — как ломаная расческа.
И внезапная мысль о себе подростка:
«выше кустарника, ниже ели»
оглушает его на всю жизнь. И еле
видный жаворонок сыплет трели
с высоты. Лето! пора зубрежки
к экзаменам формул, орла и решки;
прыщи, бубоны одних, задержки
других — от страха, что не осилишь;
силуэты техникумов, училищ,
даже во сне. Лишь хлысты удилищ
с присвистом прочь отгоняют беды.
В образовавшиеся просветы
видны сандалии, велосипеды
в траве; никелированные педали
как петлицы кителей, как медали.
В их резине и в их металле
что-то от будущего, от века
Европы, железных дорог — чья ветка
и впрямь, как от порыва ветра,
дает зеленые полустанки —
лес, водокачка, лицо крестьянки,
изгородь — и из твоей жестянки
расползаются вправо-влево
вырытые рядом со стенкой хлева
червяки. А потом — телега
с наваленными на нее кулями
и бегущий убранными полями
проселок. И где-то на дальнем плане
церковь — графином, суслоны, хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стёкла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,
удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы
как лохматая Жучка, она же Динка;
и ты глядишь на носок ботинка,
в зубах травинка, в мозгу блондинка
с каменной дачей — и в верхотуре
только журавль, а не вестник бури.
Слава нормальной температуре! —
на десять градусов ниже тела.
Слава всему, до чего есть дело.
Всему, что еще вам не надоело!
Рубашке болтающейся, подсохнув,
панаме, выглядящей, как подсолнух,
вальсу издалека «На сопках».
Развевающиеся занавески летних
сумерек! крынками полный ледник,
сталин или хрущев последних
тонущих в треске цикад известий,
варенье, сделанное из местной
брусники. Обмазанные известкой
щиколотки яблоневой аллеи
чем темнее становится, тем белее;
а дальше высятся бармалеи
настоящих деревьев в сгущенной синьке
вéчера. Кухни, зады, косынки,
слюдяная форточка керосинки
с адским пламенем. Ужины на верандах!
Картошка во всех ее вариантах.
Лук и редиска невероятных
размеров, укроп, огурцы из кадки,
помидоры, и все это — прямо с грядки,
и, наконец, наигравшись в прятки,
пыльные емкости! Копоть лампы.
Пляска теней на стене. Таланты
и поклонники этого действа. Латы
самовара и рафинад, от соли
отличаемый с помощью мухи. Соло
удода в малиннике. Или — ссоры
лягушек в канаве у сеновала.
И в латах кипящего самовара —
ужимки вытянутого овала,
шорох газеты, курлы отрыжек;
из гостиной доносится четкий «чижик»;
и мысль Симонида насчет лодыжек
избавляет на миг каленый
взгляд от обоев и ответвлений
боярышника: вид коленей
всегда недостаточен. Тем дороже
тело, что ткань, его скрыв, похоже
помогает скользить по коже,
лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка
нового компаса, определяя
Север не хуже, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,
пазы в рассохшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти
звуки смолкают. И глухо — глуше,
чем это воспринимают уши —
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк
— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене невнятен.
И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,
еще не желтая, мощь Китая.
1981
Прилив
В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.
Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.
В доме — шаром покати, и в станке — кондей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.
В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.
И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».
В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилоном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чем
не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить их оглядываться не успел!
Интервал:
Закладка: