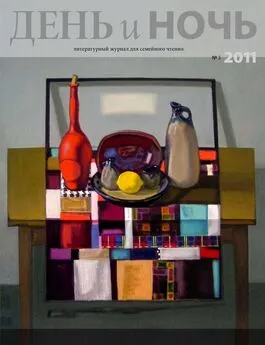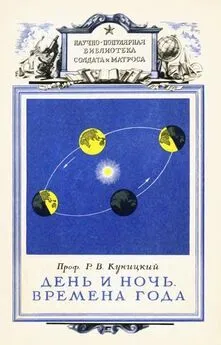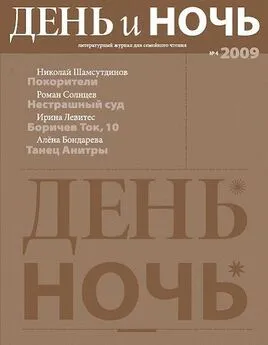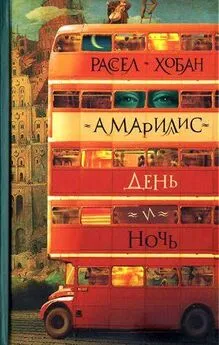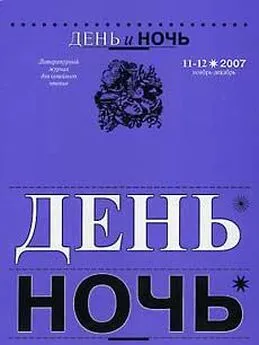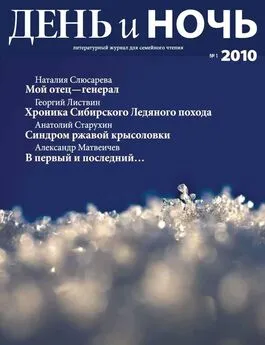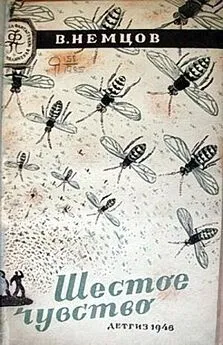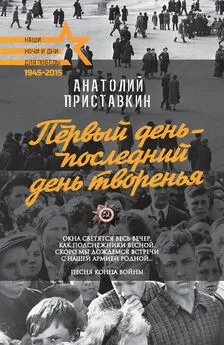Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2011–03 (83)
- Название:Журнал «День и ночь» 2011–03 (83)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2011–03 (83) краткое содержание
Журнал «День и ночь» 2011–03 (83) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От описания движений души Маяковский постепенно переходил к описанию движений окружающего его мира. И торжествующая, гордая, ничего не стесняющаяся индустрия начала двадцатого века до малейших своих черт копировалась поэзией Маяковского. Его стихотворная живопись в это время — глобальный мимесис. Составленные, «свинченные», «собранные» из блоков двух-, четырёх- и пятистиший вещи Маяковского (в отличие, скажем, от неразрывно связанных анжабеманами стихотворений зрелой Цветаевой) наглядно отображают блочный способ строительства любых вещей (от железнодорожных мостов до конных армий) в то время. Строфы «Разговора с фининспектором о поэзии» едут перед нами, как вагонетки из шахты, каждая из которых везёт энную порцию «словесной руды», чтобы увенчать-таки стихотворение афоризмом или броской сентенцией. Многократно обруганная поэма «Хорошо!» работает как огромный прокатный стан, то раскатывая строфы в тонкие звенящие листы («На шее кучей Гучковы черти министры Родзянки / мать их за ноги!»), то штампуя их короткими блестящими отрезками («Розовые лица. / Револьвер жёлт. / Моя милиция / меня бережёт»). Стих Маяковского пишет всем своим телом. Наваленные друг на друга родительные падежи («сердец столиц тысячесильные Дизели»), тяжеловесные составные рифмы («носки подарены — наскипидаренный»), причудливо выгнутые предложения («Сильный, понадоблюсь им я»), привлекающие внимание неологизмы («выгранивал», «изоханный») — всё это дословно (в буквальном смысле) повторяет приёмы грубой технизации мира в то время.
Читателей новой эпохи раздражают вычурные и броские приёмы Маяковского; кажется, они делают нелепым и весь стих. Но нужно помнить, что точно такими же — вычурными, броскими и нелепыми — были индустрия и техника того времени. Они не прятались, не скрывалась (как не скрывает своего назначения, «для рифмы», искусственный образ «ведёт река торги») — грохочущая и дымящая труба автомобиля, вознесённые к небу на некрасивых столбах провода телеграфа, задранное вверх устройство электропитания трамвая, доступные взгляду проволоки и бечёвки рулевого механизма самолёта. Увлечение Маяковского техникой и прогрессом (недаром «футурист»!) зеркально отразилось в его стихотворениях; все специально обнажённые приёмы и ходы его поэзии следует рассматривать именно как визуальное претворение окружающего мира. Мало ли что писал он про свою лесенку, говорил об интонационной разбивке строки! Присмотритесь к ней: это же конструкция Бруклинского моста или, на худой конец, копия сигналов азбуки Морзе!
Понимание всех этих (чисто графических!) аспектов поэзии Маяковского уходит вместе с уходом увлечения человечества грубой индустрией. Сейчас ведь никому уже не кажутся красивыми дымные трубы заводов и лязгающие составы поездов. И вполне естественно, что детей постиндустриального века не трогают откровенно инженерные изыски Маяковского (а ведь чего стоит одна только знаменитая монорифма: «Седеет к октябрю сова — / Седеют когти Брюсова»!). Также анахроничным выглядит и пафос его стихов, который есть не что иное, как словесно оформленное и разработанное эхо пафоса технического переустройства мира, пафоса индустриальных достижений и прогресса. Пользователи интернета предпочитают в поэзии лёгкую («цифровую») иронию, прилизанную, незаметную технику (отсюда — возврат к «простым» рифмам) и сложную систему гиперссылок (а-ля «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» Бродского). Конечно, все они знают, что и интернет — сделан, что важнейшая фигура в нём по-прежнему не дизайнер, а инженер. Но… времена изменились! Техника не шествует гордо, но старается спрятаться. И о том, каким образом добывается в Норильске никель, сейчас предпочитают не знать. Недаром до сих пор ходят слухи о превращении Норильска в «закрытый город» — этакий чёрный ящик, выдающий красиво упакованный металл, если нажмёшь на кнопочку.
Борис Кутенков [67]
Читательские ожидания и приключения жанра
Обзор литературных журналов, весна 2011

Журнал «Октябрь» уделяет поэзии минимум места на своих страницах. В этой осознанной позиции признавалась на Форуме молодых писателей в Липках главный редактор Ирина Барметова. Такой подход связан отнюдь не с нелюбовью редакции к поэзии, а с тщательным, бережным отношением к этому жанру как к вершине литературы. «Понимаете, стихи в журнальной подборке, как мозаика, как маленькие осколочки смальты, из которых предстоит мне как редактору составить набросок творческого состояния поэта, а если повезёт — портрет. Подборка должна как можно чётче очертить стиховое пространство поэта. Поэтому всегда к выбору стихов для такой публикации я отношусь внимательно, даже ревностно, тщательно отбирая», — говорила Барметова в интервью Андрею Грицману [68]Результат такого ревностного отношения — всего две стихотворные подборки на весь номер (№ 2, 2011) — но зато не вызывающие претензий по качеству, как, впрочем, и все публикации в «Октябре». Проза же в журнале представлена как малыми, так и большими формами: обширная повесть Анатолия Наймана «Ближайший Б» и окончание романа Юрия Арабова «Орлеан».
Разумеется, каждая подборка как жанр, обязанный своим возникновением толстожурнальному феномену, представляет собой определённый цикл, однако к Владимиру Салимону определение «циклический поэт» относится в большей степени. Подборка «Петя Чаадаев кушал кашу…» — ряд из 22-х лаконичных миниатюр, словно бы намеренно не завершённых — каждая следующая вроде бы не является продолжением предыдущей, но логическая связь выражена достаточно тесно, что создаёт ощущение дневниковых записей. Поэт с размеренной, иронично-наблюдательской интонацией подмечает детали окружающего мира, держась при этом преимущественно традиционных размеров. Несмотря на очевидную индивидуальность, не оставляет ощущение, что поэт находится в едином эстетическом русле с «арионовским» вкусовым мэйнстримом — лаконичные пейзажи с оттенком наблюдательской иронии, противостоящие поэзии катастроф и дисгармонии (из представителей этого течения можно назвать в чём-то различных, но, несомненно, интонационно очень схожих В. Тучкова, Ю. Хоменко, В. Иванова). Косвенно говорит об этом и сам Салимон:
Я был бы рад с друзьями поделиться
всем тем, чем безраздельно я владею.
Берите всё, чем можно поживиться.
Всё — форму, содержание, идеи!
Шесть стихотворений Владимира Алейникова выдержаны в советской стилистике с несколько архаизированной, возвышенной интонацией. Метафизика природы восходит к Тютчеву и Заболоцкому. Лирического героя волнуют проблемы сотворения мира, — они интерпретированы поэтом с большой степенью индивидуальности и пронизаны религиозно-дидактическим пафосом:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: