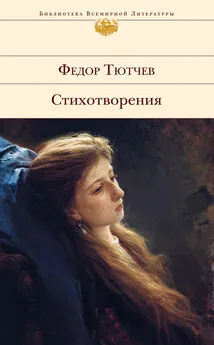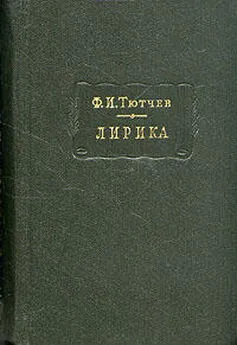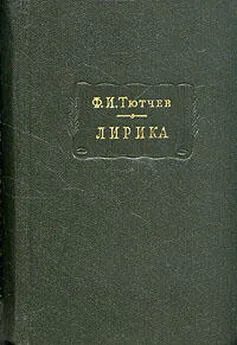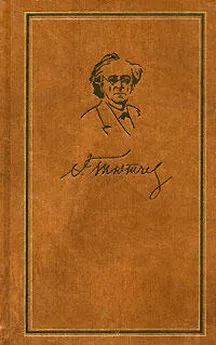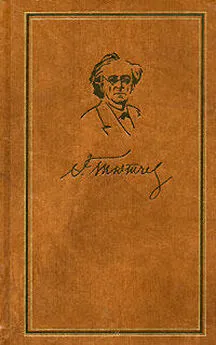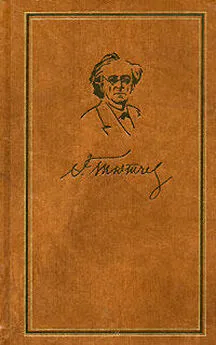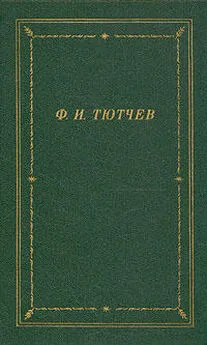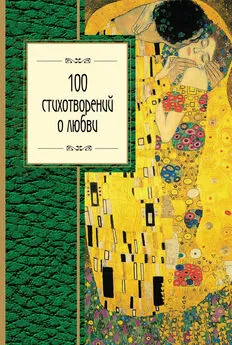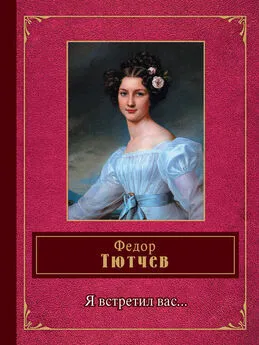Федор Тютчев - Стихотворения
- Название:Стихотворения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-58650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Тютчев - Стихотворения краткое содержание
Ф. И. Тютчев – выдающийся представитель русской философской лирики ХIХ века, великий русский поэт, стихотворениями которого восхищался А. С. Пушкин.
Тютчев, не будучи поэтом «по профессии», писал на грани озарения, с сердцем, «полным тревоги», и оттого книга его стихотворений, по известному надписанию Фета, «томов премногих тяжелей». Лирика Тютчева проникнута страстной, напряженной мыслью, острым чувством трагизма жизни, отражает сложность и противоречивость действительности, часто в образах природы. Любовной лирике поэта свойственны исповедальность, осмысление любви как фатальной силы, ведущей к опустошению и гибели. Настоящее издание достаточно полно представляет поэтическое наследие Ф. И. Тютчева: в книгу вошли почти все стихотворения поэта – 365 из 404 известных.
Стихотворения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вообще для Фета весна – край ее, самое жгучее ее «буйство» [56]воли к жизни, самое упоительное самообольщение, заблуждение ее, которое всегда должно разрешиться, завершиться исчезновением в отрешенных звездных безднах, хотя и возобновляется вовеки [57].
Насколько у Фета мироздание в яркий солнечный день и вся пластика и все те животные процессы природы представляются великим, богатым, но зыбким плавучим призраком, настолько для Тютчева образцовое, единственное в своем роде всякий образ и трепет земли полон какой-то достоверности и, в строгом смысле – истины. Вот хотя бы изображение радуги – самого обольстительного и призрачного из явлений природы, какая в нем сила признания и убеждения: несмотря на то, что ясно сознается – «оно дано нам на мгновение» [58]– человек весь устремляется к нему, так сказать, верит в него, когда она уходит, это то же, как если «уйдет всецело, чем ты и дышишь, и живешь» [59]. Радуга в глазах поэта приобретает необычайную осязательность и самобытность. Из веры в преходящее, соединенной с верой в бесконечное, проистекает и несравненное, не имеющее себе равного ни у одного русского поэта, солнечное освещение в поэзии Тютчева, не исключая античного солнца Майкова, более декоративного или исключительно ясноутреннего. Тютчев любит солнце в его зените, в минуты самого широкого его распространения. Фет любит только великолепие, блеск, звон, пресвещение и преизбыток багряных и золотых отливов заката, а потом погружается в глубоко синий ночной сумрак и мерцание звезд. В дне он любит больше всего растворяющее тепло, от которого млеешь, до того, что «пропадает от тоски и лени», «сердце ноет, слабеют колени» [60]. И в этом жару и воспалении он растапливался до тысяч пор, пока в изнеможении душа не просила опять сумрачного покоя ночи, ее влажного упоения. Так проходил через солнечные дни, ослепленный, закрыв глаза от неги. Недаром в Италии он не мог петь, только «дышать» [61].
Тютчев же вдохновлялся самим светом дня, прямо и зорко созерцал славу ясных и ярких небес, лазурь. Он влюблен был в час южных дней и их сияющие воды. Так, единственный из русских поэтов, он гордо и свободно взглянул в лицо даже божескому полдню – не в тех строках, где, как у Майкова, ощущена только дремота великого Пана и полдень на взгляд человека еще «мглист» [62]. Нет, торжество и неприступное величие полуденного света неподражаемой свободой явлено в тех строфах, где вызвано именно сопоставление «дольнего мира» [63], в этот «час полусонного и лишенного сил» [64], с «тем всемогуществом, которым обладают «выси ледяные» [65], когда они «играют с лазурью неба огневой». И божества эти для поэта – «родные» [66].
Вообще, солнце, типично южное солнце у Тютчева – обаевает безбрежным горизонтом своего волнения, свободой своей игры; оно непреложное средоточие жизни; в нем есть также строгий бронзовый отлив и слегка темнеющее от яркости света сияние. У Фета солнце слишком сладостно-золотистое, застлано какой-то белесоватой дымкой, вследствие недостаточной остроты и прозрачности взора. Опять-таки оно появляется как откуда-то льющийся блеск лучезарного весеннего призрака.
Родственно знакомо Тютчеву также летнее волнение жара, полдень и послеполуденная пора года, когда «солнце нижет лучами в отвес» [67]исчезать в «море душистой тени» [68]«густолистого леса» [69]… Но Фет в это время пел «под липою густою», куда «полдневный зной не проникал» [70]. Тютчев же смело и легко приобщался к порыву природы в «летних бурях», [71]переживал восторг рокового предвестия гибели года; под этими теплыми, скрывающими солнце, в просветах грозных туч небесами. Этот восторг так широко и больно выразился в том наблюдении, что
«…кой-где первый желтый лист, —
Крутясь слетает на дорогу» [72].
Бесконечная сущность у Тютчева – если она признается истинно-сущей во всех явлениях, и только в них, то она может мыслиться бесконечною лишь поскольку она есть бесконечное множество всех явлений, иными словами – бесконечное пространство и время. Но это одно сопоставление понятий включает в себя внутреннее противоречие. Всякое явление, которое, если дано, предполагает пространство, и время, предполагает, иными словами, нечто внешнее, относительно него: без этого внешнего, чему оно является, без подлежащего явления, само явление не может быть, возникать. Итак, бесконечность явлений, что то же – бесконечное пространство и время означало бы такое состояние, в котором нечто бесконечное не могло бы быть без внешнего к нему конечного; это было бы безусловное поставленное для ближайшей необходимости бытия в зависимость от условия, беспредельная ограниченность.
Таким образом, самое понятие о бесконечном множестве ограниченных предметов содержит внутреннее противоречие. Множество ограниченных предметов не может быть бесконечно. В этом – несостоятельность учения о Бесконечности, как только о Целом пространственных и временных единиц, то есть чистого пантеизма, к которому ближе всех был Спиноза, а еще ближе некоторые философствующие приверженцы точной науки нашего времени, например, Тэн, да и Гюйо и Ницше [73]. Но столь же несостоятельно и понятие бесконечности как только бытия внепространственного и вневременного, перед которым весь мир предельный, то есть вышедший из разделения между «я» и «не-я» – ничто, пустой обман. Это учение кантовской критики и шопенгауэровского буддизма. Здесь противоречие еще легче вскрыть. Прежде всего мы ощущаем себя только коль скоро у нас есть мир внешний: будь этот мир – даже временный обман, надо знать причину, по которой возник этот обман.
На это Шопенгауэр говорит, где нет подлежащего и предмета, нельзя спрашивать о причинах: причинность, иными словами «логика», есть только коль скоро есть «я» и «не-я». Но кто же это доказал, что состояние разделения между «я» и «не-я» есть обман и что, значит, логика, обусловленная им, вне его не действительна? Конечно, та же логика. Критика познания, то есть мышления, восприятия и ощущения произведена тем же мышлением, восприятием и ощущением; чем же она достовернее самого непроверенного мышления, а также восприятия и ощущения?
С другой стороны, если опять-таки исходить из понятия истинной бесконечности, так еще менее будет отвечать ему, чем понятие о бесконечном множестве предметов, понятие о бесконечном единстве, единообразии и о множестве, многообразии как о призрачном явлении.
Призрак временно, или призрак времени чувствуется призрачным сознанием, и, если он только хоть на миг чувствуется, он вне бесконечного единства. Если же относительно него есть нечто внешнее, так оно уже ограничено чем-то, не бесконечно.
Вполне соответствовать понятию бесконечности может только мысль о бытии, сущем во всех формах, явлениях и их подлежащих и вместе с тем вполне вне их, в состоянии, свободном от всяких подлежащих и явлений, то есть чисто единообразном. А. Толстой подошел к такому понятию, признав в бесконечном бытии пространственные и временные различия – формы и творчество их, но как то, так и другое в виде, свободном от всякого взаимного ограничения и беспредельном. Таким образом, он и соединил конечное с бесконечным более всего со стороны качественной, признав все качества явлений присущими сущности. Тютчев подошел к такому понятию, признав в бесконечном бытии сумму силы всех явлений. Конечное с бесконечным он соединил таким образом более всего со стороны количественной, чувствуя в каждом явлении приток необъятной суммы сил, заложенной в сущности. На эту сторону, на «материал» А. Толстой, в свою очередь, не обратил должного внимания, преимущественно относя ее на счет «хаоса» и Сатаны. Сатана говорит: «а так как мир Господь из ничего создал, то я тот самый [материал], который послужил для мирозданья» [74]. Через это, в свою очередь, обнаруживается, что тот количественный запас сил, которым А. Толстой был отделен от Божества, и сводился зато к чему-то вполне неуловимому, что остается, если отвлечься от всех форм, между тем, так как в творчество форм, в дело Слова входит, конечно, и запас относительно безобличных [75]сил, так и в сущность божества у того же поэта могли быть введены количественные элементы. А у Тютчева, с другой стороны, раз он чувствовал существенность и множество образов в мире, то в природе бесконечной суммы сил он несомненно усматривал и некоторые качественные признаки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: