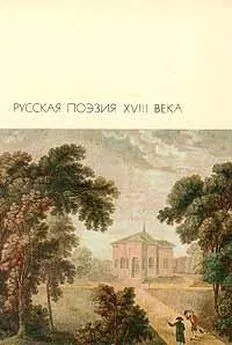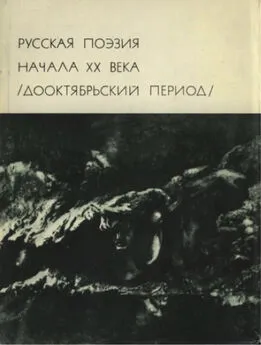Сборник - Русская поэзия XVIII века
- Название:Русская поэзия XVIII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Детская литература»4a2b9ca9-b0d8-11e3-b4aa-0025905a0812
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-08-004480-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник - Русская поэзия XVIII века краткое содержание
В книгу включены избранные стихотворения русских поэтов XVIII века: А. Кантемира, В. Тредиаковского, М. Ломоносова, А. Сумарокова, М. Хераскова, Г. Державина и др.
Для среднего и старшего школьного возраста.
Русская поэзия XVIII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А. Архангельский
Земля хромоногих и картавых [270]
Не помню, где-то я читал,
Что в старину была землица небольшая,
И мода там была такая,
Которой каждый подражал,
Что не было ни человека,
Который бы, по обычáю века,
Прихрамывая не ходил
И не картавя говорил;
А это всё тогда искусством называлось
И красотой считалось.
Проезжий из земли чужой,
Но не картавый, не хромой,
Приехавши туда, дивится моде той
И говорит: «Возможно ль статься,
Чтоб красоту в том находить —
Хромым ходить
И всё картавя говорить?
Нет, надобно стараться
Такую глупость выводить».
И вздумал было всех учить,
Чтоб так, как надобно, ходить
И чисто говорить.
Однако, как он ни старался,
Всяк при своем обычае остался;
И закричали все: «Тебе ли нас учить?
Что на него смотреть, робята, всё пустое!
Хоть худо ль, хорошо ль умеем мы ходить
И говорить,
Однако не ему уж нас перемудрить;
Да кстати ли теперь поверье отменить
Старинное такое?»
‹1779›
Лев, учредивший совет
Лев учредил совет какой-то, неизвестно,
И, посадя в совет сочленами слонов,
Большую часть прибавил к ним ослов.
Хотя слонам сидеть с ослами и невместно,
Но лев не мог того числа слонов набрать,
Какому прямо надлежало
В совете этом заседать.
Ну, что ж? пускай числа всего бы недостало,
Ведь это б не мешало
Дела производить.
Нет, как же? а устав ужли переступить?
Хоть будь глупцы судьи, лишь счетом бы их стало.
А сверх того, как лев совет сей учреждал,
Он вот как полагал
И льстился:
Ужли и впрям, что ум слонов
На ум не наведет ослов?
Однако, как совет открылся,
Дела совсем другим порядком потекли:
Ослы слонов с ума свели.
‹1779›
Метафизический ученик [271]
Отец один слыхал,
Что за море детей учиться посылают
И что вобще того, кто за морем бывал,
От небывалого отменно почитают,
Затем что с знанием таких людей считают;
И, смотря на других, он сына тож послать
Учиться за море решился.
Он от людей любил не отставать,
Затем что был богат. Сын сколько-то учился,
Да сколько ни был глуп, глупяе возвратился.
Попался к школьным он вралям,
Неистолкуемый дающим толк вещам;
И словом, малого век дураком пустили.
Бывало, глупости он попросту болтал,
Теперь ученостью он толковать их стал.
Бывало, лишь глупцы его не понимали,
А ныне разуметь и умные не стали;
Дом, город и весь свет враньем его скучал.
В метафизическом беснуясь размышленьи
О заданном одном старинном предложеньи:
«Сыскать начало всех начал»,
Когда за облака он думой возносился,
Дорогой шедши, вдруг он в яме очутился.
Отец, встревоженный, который с ним случился,
Скоряе бросился веревку принести,
Домашнюю свою премудрость извести;
А думный между тем детина,
В той яме сидя, размышлял,
Какая быть могла падения причина?
«Что оступился я, – ученый заключал, —
Причиною землетрясенье;
А в яму скорое произвело стремленье
С землей и с ямою семи планет сношенье».
Отец с веревкой прибежал.
«Вот, – говорит, – тебе веревка, ухватись.
Я потащу тебя; да крепко же держись.
Не оборвись!..» —
«Нет, погоди тащить; скажи мне наперед:
Веревка вещь какая?»
Отец, вопрос его дурацкий оставляя,
«Веревка вещь, – сказал, – такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму попадет». —
«На это б выдумать орудие другое,
А это слишком уж простое». —
«Да время надобно, – отец ему на то. —
А это, благо, уж готово». —
«А время что?» —
«А время вещь такая,
Которую с глупцом я не хочу терять.
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять».
Что, если бы вралей и остальных собрать
И в яму к этому в товарищи сослать?…
Да яма надобна большая!
‹1779›
Лестница
Всё надобно стараться
С потребной стороны за дело приниматься;
А если иначе, всё будет без пути.
Хозяин некакий стал лестницу мести;
Да начал, не умея взяться,
С ступеней нижних месть. Хоть с нижней сор сметет,
А с верхней сор опять на нижнюю спадет.
«Не бестолков ли ты? – ему тут говорили,
Которые при этом были. —
Кто снизу лестницу метет?»
На что бы походило,
Когда б в правлении, в каком бы то ни было,
Не с вышних степеней, а с нижних начинать
Порядок наблюдать?
‹1782›
Александр Радищев
(1749–1802)
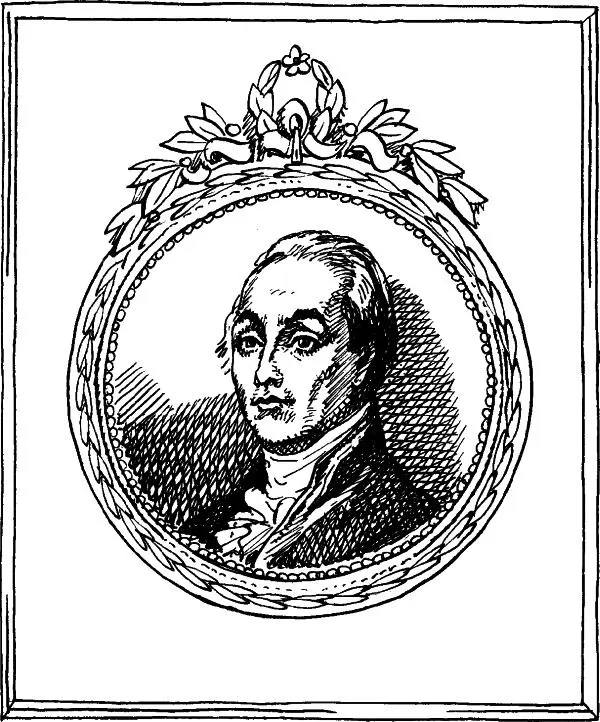
Когда в исходе июня 1790 года Екатерина II прочитала «Путешествие из Петербурга в Москву», ею овладело не беспокойство, а нечто большее. Она уже не пыталась прикрыть угрозу улыбкой: ведь в этой книге все «противно закону христианскому», все «служит разрушению союзу между родителями и детьми», все «клонится к возмущению крестьян против помещиков, войск против начальства», и автор «царям грозится плахою». Как вспоминал потом ее секретарь, Екатерина II «с жаром и чувствительностью» произнесла свою историческую фразу об Александре Николаевиче Радищеве: «Он бунтовщик хуже Пугачева».
Существует несколько облегченное представление о творческом и жизненном пути Радищева. Вот примерные узловые точки схемы: детство в Верхнем Аблязове (здесь он получает первые понятия о крепостной действительности); обучение – сначала в Пажеском корпусе (здесь он знакомится с лицемерной жизнью двора Екатерины), потом в Лейпцигском университете (проникается революционными идеями Гельвеция, Руссо, Мабли); по приезде в Россию – государственная служба (становится свидетелем чудовищного произвола и насилий, творимых над крестьянами, судебных беззаконий); параллельно со всем этим – литературная деятельность и пик ее – «Путешествие из Петербурга в Москву», в котором и отразились «все впечатленья бытия»; далее – ссылка и, наконец, чаша с ядом – как последнее, предельное выражение протеста против самодержавия.
Но «Путешествием…» не заканчивается творческий путь его; многие свои произведения – философские, экономические и поэтические – он создал уже в ссылке и по возвращении из нее.
Величие Радищева – в предельной простоте и общедоступности его нравственного кредо. Вспомним, как начинается «Путешествие…»: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы… Я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! Я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: