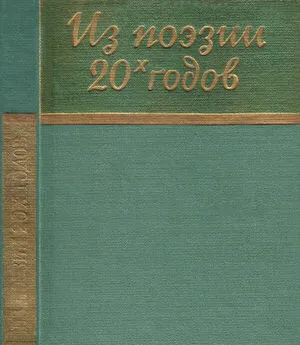Евгений Плужник - Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов
- Название:Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01137-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Плужник - Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов краткое содержание
В сборник вошли стихи, написанные в 20–30-е годы поэтами разных направлений, стоявшими у истоков советской украинской литературы и во многом определившими ее дальнейшее развитие. Большинство из них были репрессированы в годы культа личности Сталина.
Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во тьме все замерло, стихая!
Прохлада сердце леденит,
и с неба падают, сверкая,
скупые слезы Персеид.
«Под живой голубизною…»
Под живой голубизною
осушает март поля,
и певуча подо мною
покрасневшая земля.
Гроз кровавое дыханье,
топит дождь людей, зверят,—
но из глубей мирозданья
встанет новый Арарат.
И звенят стожарно дуги:
мир убогим хатам! мир!
Пусть никто не тащит, други,
вас в невольничий ясырь!
Ветер пьет ненастья кубки…
Встал ковчег посреди гор,
и, как Ной, я жду голубки,
чтобы выйти на простор!
«Еще все губы камня…»
Еще все губы камня
крыш высоких,
припав, бузу татарскую сосут,
еще безматок в улее гигантском
не ворохнулся:
грузно спит,—
уже
за городом припухлым, хмурым веком
моргает кто-то
и нервно пальцами
по водостокам бьет.
Бульвары.
Прибитый снег застыл —
как застарелый мрамор,
а рядом чернота припала:
провалились раны…
И слезы
(не мои — дубов безмолвных)
лицо и руки окропляют мне.
Незрячие, чего ж вы в плаче?
Пусть грязною дерюгою
покроется дорога,
пусть войлок виснет
вместо синевы,—
но верьте,
скоро, скоро
сюда веселье прилетит
и будет музыка играть,
когда и в хате обветшалой,
и в самом нищенском квартале,
и в каждом месте,
в каждом сердце
взойдут светящиеся розы…
Розвальнями
молчаливо
кожух проехал.
«Зной августовский ослабел…»
Зной августовский ослабел.
И, гарусной напрявши пряжи,
ткач золотом вечерним мажет
полей узорчатых предел.
Есть зелень все еще в глазури,
как и в осенних косах верб,
но тень легла в густой лазури
на тонко вычерченный серп.
Померкло горное горно.
Ночь — это траурная рама.
Кто память мучает упрямо?
День отгорел. Давно.
«Наделы, как платок басманный…»
Наделы, как платок басманный,
с низины ровной и пустой
доносит запах конопляный,
полынной горечи настой.
Журавль колодца одинокий
грустит над нивами давно.
Полощет солнышко в протоке
золототканое рядно.
И день, как вол, идти не хочет.
И коршуна застыл полет.
Когда ж мотор здесь загрохочет,
век электрический сверкнет?
«Я полюбил тебя на пятой…»
Я полюбил тебя на пятой
весне голодной: всю — до дна.
Благословив и путь проклятый,
залитый пурпуром вина.
Орлицею на бой летела,
добросердечна, а не зла.
Я видел кровь на крыльях смелых
и рану посреди чела…
И взгорбилась Голгофа снова:
усмешка стражей, гул, огни,
и ворог вылезший сурово
кричал: распни ее, распни!
И мы с тобою, горечь муки
испив из полного ведра,
соединяли молча руки,
как кровный брат и как сестра.
НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Жаворонков высокий клирос,
все кругом заросло ивняками.
А бабочка, как заблудилась,
и трепещет крылами.
Славно идти на луга, озера,
веря — благословит
этот миг неприметно для взора
тех, в ком сердце болит.
Пустота впереди, и сзади
никто меня не догонял.
Ивы. Пески. Левады.
Дорогу я потерял.
В СЕЛО
Гул проводов, и вязнут ноги,
как будто стерты все пути,
и против ветра, без дороги
по снегу тяжело идти.
Вокруг пустыня снеговая,
мерцает стылая краса,
и, вечной крышей нависая,
над ней — пустые небеса.
Где крыши прячутся, горбаты?
Везде курганы намело,
и ни одной не видно хаты —
наверно, сгинуло село.
За революцию страдало,
терпело войны, голод, мор,
и что для нас спасеньем стало,
ему — лишь гибель и разор.
А за курганом за высоким
встал Ленин с выпуклым челом:
— Вот тут, вот тут оно, под боком,
порошей замело кругом…
И снова вязкая дорога,
и в очи снежная пыльца…
Пока надежды есть немного,
о сердце, бейся до конца!
Слезами жги снегов заслоны,
пройди с огнем сугробы мглы
иль, разорвавшись запаленно,
рассыпься горсткою золы!
Гул проводов, и вязнут ноги,
как будто стерты все пути,
колючий ветер, нет дороги,
а надобно идти!
«Эту ли долю стану хулить…»
Эту ли долю стану хулить:
быть только эхом, эхо будить.
Всхожего поля поэтом я был —
на богатеев гнев не остыл.
Песня — сестра мне, степь — побратим,—
вольная воля всем нам троим.
Дважды родную предал сестру.
После увидел: без песни умру…
Вновь на чужбине встретившись с ней,
в отсвете слабом первых огней,
не разлучаться вечный зарок
дали себе мы у дальних дорог.
Брат мой, сестрица, в дивном краю
скоро сроднит нас ветер в семью.
С ветром нас больше, ветер нам друг,—
кто разорвет породнившийся круг?
Песня со мною, ветер и степь —
нежность и воля, сила и крепь.
Быть только эхом, эхо будить —
эту ли долю стану хулить.
«Я мир воспринимаю оком…»
Я мир воспринимаю оком,
влюбленный в линию и цвет,
лучистым лемехом глубоко
в моей душе прорезан след.
Люблю я речи полновесной,
как мед пьянящий, запах слов,
лежавших в глубине безвестной
забытых сумрачных веков.
Беда с эпитетом случайным,
когда приходит невпопад,
лишь ямб с анапестом чеканным
устав незыблемо хранят.
Я златокосу осень славлю,
с рубином горечи, влюблен,
его в своей душе оправлю,
чтоб из нее не выпал он.
Светлы для слуха и для взора,
певучи струи бытия,
и верится, что скоро-скоро
вот так же запою и я.
ПАМЯТИ С. ЕСЕНИНА
Над ним лишь черный стяг свисает,
на стенах крови след не смыт,
а в сердце он еще сияет,
как золотой метеорит.
Я помню вечер тот туманный
над Петербургом голубым,
морозный блеск и ветер пьяный,
Исаакий, высей сизый дым.
Огнями расцвела эстрада,
и вышел он, как ясный день,
душа была смущенно рада
услышать щедрых песен звень.
Голубоглазый и кудрявый,
как ясень, стройный, молодой,
еще не знавший горькой славы,
на сцену вышедший впервой.
В простой рубахе и кафтане,
вчера лишь только из села,
а очи тихи, как у лани,
и нежность очи обожгла.
Интервал:
Закладка:
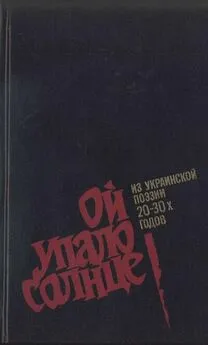
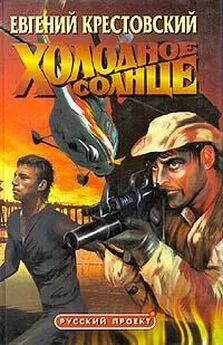


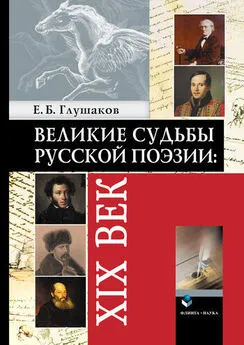
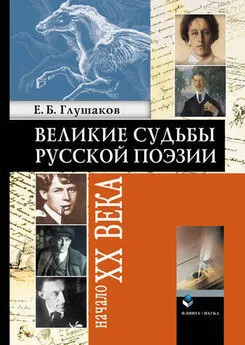
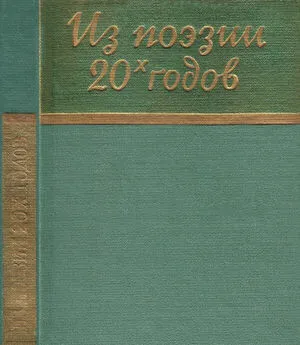

![Евгений Носов - Где просыпается солнце? [Рассказы]](/books/1076723/evgenij-nosov-gde-prosypaetsya-solnce-rasskazy.webp)