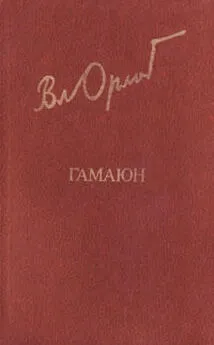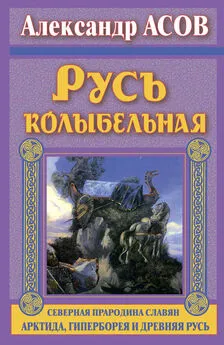Александр Блок - Русь моя, жизнь моя…
- Название:Русь моя, жизнь моя…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-76862-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Блок - Русь моя, жизнь моя… краткое содержание
В этот том вошли многие стихотворения Александра Блока из составленного им «романа в стихах», пронзительные стихотворения о России, поэмы «Возмездие» и «Двенадцать», пьесы, проза разных жанров. Личность Александра Блока, его судьба в неразрывности жизни и литературы – вот объединяющая идея книги. Представлены также фрагменты его дневников и записных книжек, избранные письма, воспоминания современников о Блоке.
Печатаются все произведения поэта, включенные в основные российские школьные программы по литературе.
Русь моя, жизнь моя… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:
…Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья —
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! вот права!..
Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:
Любовь и тайная свобода
Внушили сердцу гимн простой [44].
Эта тайная свобода , эта прихоть – слово, которое потом всех громче говорил Фет («Безумной прихоти певца!» [45]), вовсе не личная только свобода, а гораздо большая: она тесно связана с первыми двумя делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей, в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела – не личные.
Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин – слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это – не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман [46].
Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку.
От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно; может быть, за патиною времени, откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим; надо пережить еще какие-то события; приговор по этому делу – в руках будущего историка России.
Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы» [47]сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Это – предсмертные вздохи Пушкина, и также – вздохи культуры пушкинской поры.
На свете счастья нет, а есть покой и воля [48].
Покой и воля . Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.
Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.
Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение.
Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины:
Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать.
В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина.
11 февраля 1921
Ни сны, ни явь
Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.
Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно – штук двадцать.
Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького фабричного, гнилого Григория такой сильный голос.
Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.
Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в далекий угол сада.
После этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень.
Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой.
Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только «политический», который все время тут путался по дорогам на велосипеде, нелегально. Урядник всегда ездил низом, прямо через болото, а «политический» – верхом, по дороге. Бывало, урядник ушмыгнет в кусты на своих беговых дрожках, как курица, мокрый от водки; а уж с горки соколом катит на велосипеде «политический»; на штанах у него прилипли и в педалях велосипеда застряли репьи. Собаки совершенно осипли, крутят хвостами в облаке пыли.
Итак, все мы кончили довольно плохо: «изменились скоро, во мгновение ока, по последней трубе», как и предупреждал дьякон.
Но ведь «политический», что бы ни произошло, всегда останется «политическим» и «нелегальным». Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно, сам же и нарушал.
Всю жизнь мы прождали счастия, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Ослепли от снега, а все ждут, когда появятся на повороте три огня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: