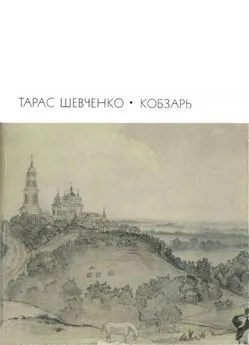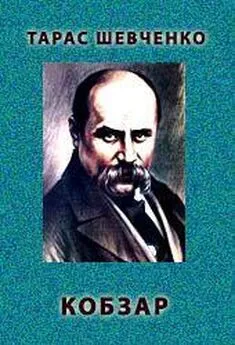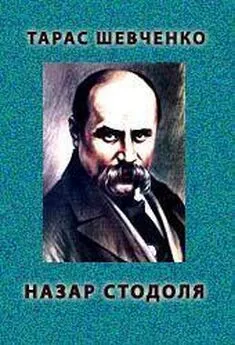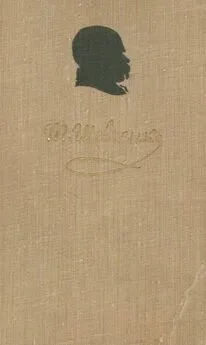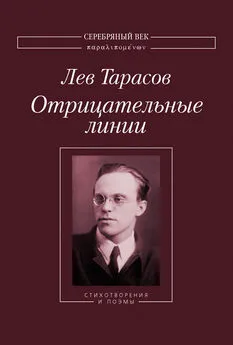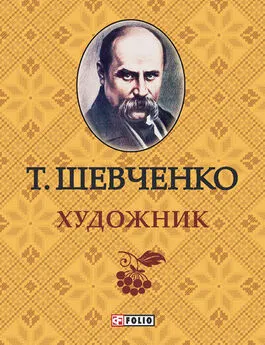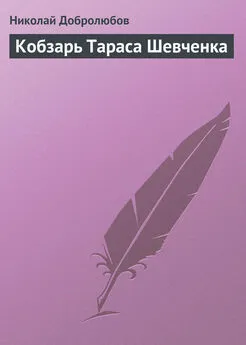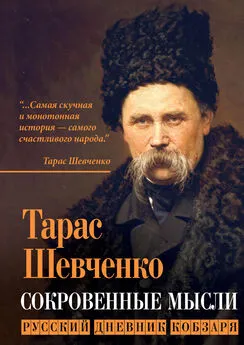Тарас Шевченко - Кобзарь: Стихотворения и поэмы
- Название:Кобзарь: Стихотворения и поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тарас Шевченко - Кобзарь: Стихотворения и поэмы краткое содержание
В сборник вошли поэтические произведения великого украинского поэта Т. Г. Шевченко (1814–1861).
Большой мир национального и всечеловеческого бытия встает с пламенеющих страниц "Кобзаря". Картины народной жизни, с многообразием ее человеческих типов и лиц, ее драмами и трагедиями, так же как и с ее редкостными поэтически светлыми моментами, с ее горестным настоящим и трудным, но героическим прошлым, с ее обычаями и преданиями, красота родной земли и ее пейзажей — все это художественно дано Шевченко для последующих поколений с той "отцовской" первоначальностью, щедростью и непреложностью, которая роднит его в литературах XIX века прежде всего с Пушкиным и Мицкевичем.
Вступительная статья М. Рыльского.
Примечания И. Айзенштока.
Иллюстрации Т. Шевченко.
Кобзарь: Стихотворения и поэмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не судите меня, люди,
Кому не по нраву,
Что писал я не по книгам
Про казачью славу.
Дед рассказывал когда-то
Я за дедом следом.
Не знал старый и не ведал,
Что его беседу
Люди книжные услышат.
Ученые люди.
Прости, дедусь! Ну, да пусть их
Как хотят, так судят.
Я к своим вернусь покамест,
Доведу — не кину,
Да хотя б во сне увижу
Свою Украину,
Где гуляли гайдамаки
С святыми ножами;
Те дороги, где ходил я
Босыми ногами.
Погуляли гайдамаки,
Славно погуляли:
Чуть не целый год шляхетской
Кровью заливали Украину.
Да и стихли,
Ножи притупили.
Нету Гонты {95} , и креста нет
На его могиле.
Поразвеял буйный ветер
Степью прах казачий.
Кто о нем молиться станет,
Кто о нем поплачет?
Только брат, хоть не родной он,
Не кровный, да лучший,
Услыхал, какою мукой Гонта был замучен, —
В первый раз, быть может, сроду
Никто б не подумал!
Зализняк заплакал горько
И от горя умер.
Доконала весть лихая
В чужедальнем поле.
В чужом поле схоронили —
Такая уж доля!
Грустно, грустно гайдамаки
Батька схоронили.
Холм насыпали высокий,
Навеки простились.
Поплакали — разошлися,
Кто откуда взялся…
Лишь Ярема, опершися
На посох, остался
У могилы. «Спи, мой батько,
Средь чужого поля!
В родном поле нету места,
Нету нашей воли.
Почивай, казак, далеко
От родного края».
И пошел Ярема степью,
Слезы утирая.
Все оглядывался хлопец,
Пока видно было.
А потом — одна осталась
Средь степи могила.
Посеяли гайдамаки
На Украине жито.
Только жито вражьим коням
Легло под копыта…
Кривда выросла, а правда
Не выросла — нету.
Разошлися гайдамаки
Кто куда по свету.
Под мостами на дорогах
Засели иные,
А про всех такая слава {96}
Живет и доныне.
Той порой и Сечь былую
Дотла разорили.
На Кубани, на Дунае
Казаки укрылись.
А днепровские пороги
В степи завывают:
«Схоронили сынов наших
И нас разрывают».
Ревут себе, вспоминают
Про то, что минуло.
И навеки Украина,
Навеки уснула.
С той поры в степях широких
Жито зеленеет,
Ни пальбы, ни криков бранных, —
Только ветер веет.
Низко вербы нагибает,
Ковыль в чистом поле.
Все затихло, замолчало, —
На то божья воля.
Только деды-гайдамаки
Под вечер проходят
Над Днепром-рекой и песню
Давнюю заводят:
«У нашего Галайды — богатая хата!
Гей, море! Славно, море!
Славно будет, Галайда!»
Предисловие
После слова — предисловие. Можно бы и без него. Так вот, видите ли: все, что я видел напечатанного, — только видел, а прочитал очень немного, — все имеет предисловие, а у меня нет. Если бы я не печатал своих «Гайдамаков», то было бы не нужно и предисловие. А если уж выпускаю в свет, то надо с чем-нибудь, чтоб не смеялись над оборванцами, чтоб не сказали: «Вот какой! Разве деды да отцы глупее были, что не выпускали в свет даже букваря без предисловия!» Да, ей-богу, да, извините, надобно предисловие. Только как же его скомпоновать? Чтобы, знаете, не было ни неправды, ни правды, а так, как все предисловия компонуются. Хоть убей, не умею: надо бы хвалить, — да стыдно, а хулить не хочется.
Начнем же уже начало книги сице : весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном, и весело послушать его, когда он запоет думу про то, что давно происходило, как боролись ляхи с казаками, весело, а… все-таки скажешь: «Слава богу, что миновало», — а особенно когда вспомнишь, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались, пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть, житом, пшеницею, как золотом покрыта, не размежевана останется навеки от моря и до моря славянская земля.
О том, что происходило на Украине в 1768 году, рассказываю так, как слышал от старых людей, напечатанного и критикованного ничего не читал, ведь, кажется, и нет ничего. Галайда наполовину выдуман, а смерть ольшанского ктитора правдива, — ведь есть еще люди, которые его знали. Гонта и Зализняк — атаманы этого кровавого дела, может, выведены у меня не такими, какими они были, — за это не ручаюсь. Дед мой, доброго ему здоровья, когда начинает рассказывать что-нибудь такое, что не сам видел, а слышал, то сперва скажет: «Если старые люди врут, то и я с ними».
«Видим, видим, что надул, да еще и хочет отбрехаться!» Вот так вы вслух подумаете, прочитав моих «Гайдамаков». Господа почтеннейшие, ей-ей, не брешу. Вот видите что! Я думал, и очень хотелось мне напечатать ваши казацкие имена рядышком, хорошенько; уже было и нашлось их десятка два, три. Слушаю, выходит разноречиво: один говорит — «надо», другой говорит — «не надо», третий ничего не говорит. Я думал: «Как тут быть?» Взял да и протрынькал хорошенько те деньги, что надо было заплатить за листок напечатанного, а вам и ну писать эту цидулу! Все бы это ничего! Что не случается на веку! Всякое бывает, как на долгой ниве. Да вот — горе мое! Есть еще и такие панычи, что стыдились свою благородную фамилию (Кирпа-Гнучкошиенко — въ) и напечатать в мужицкой книжке. Ей-ей, правда!
Т. Шевченко
[Петербург, 1841]
«Ветер веет, повевает…»
Перевод Н. Асеева
Ветер веет, повевает,
Шепчется с травою;
Плывет челнок по Дунаю,
Гонимый волною.
Плывет в волны, водой полный,
Никто не приметит;
Кому глядеть? Хозяина
Давно нет на свете.
Поплыл челнок в сине море,
А оно взыграло…
Поднялися волны-горы —
И щепок не стало.
Короткий путь, что челноку
До синего моря, —
Сиротине до чужбины,
А там — и до горя.
Словно волны, поиграют
С ним добрые люди;
Потом станут удивляться,
На что он в обиде;
Потом спроси, где сирота, —
Никто и не видел…
[Петербург, 1841]
Марьяна-черница
Перевод Л. Вышеславского
Оксане К…ко {98} . На память
о том, что давно минуло
{97}
Ветер стонет, долу клонит
Лозу на просторе,
Дуб ломает, катит полем
Перекати-поле.
Так и доля: того согнет,
Иного сломает;
Меня катит, а где бросит —
И сама не знает,
В какой стране бедняка закопают?
Где я успокоюсь, навеки засну?
Коль знаешь на свете лишь бедность одну,
То жизни не жалко. Никто не узнает,
Не скажет хоть в шутку: «Пускай почивает!
В одном его счастье, что рано заснул».
Не правда ль, Оксана? голубка чужая!
Ты тоже не вспомнишь того сироту,
Что счастлив был, в свитке по свету блуждая,
Когда видел чудо — твою красоту.
Кого ты без речи, без слов научила
Очами, душою, сердцем говорить,
С кем пела Петруся , {99} чтоб горе забыть,
С кем в песнях всю душу умела раскрыть.
Ты тоже не вспомнишь. Оксана! Оксана!
Поныне я плачу, тоскую, томлюсь,
Проливаю слезы над моей Марьяной,
Тобою любуюсь, за тебя молюсь.
Припомни ж, Оксана, голубка чужая,
Укрась же сестрицу Марьяну венком,
Взгляни на Петруся, печали не зная,
И хоть невзначай помяни о былом.
Интервал:
Закладка: