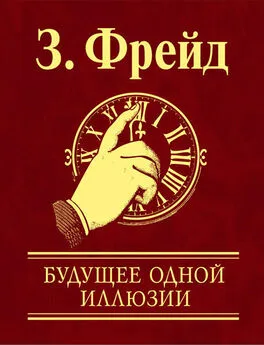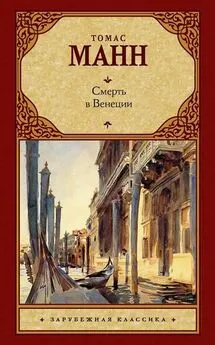Томас Манн - Фрейд и будущее
- Название:Фрейд и будущее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Манн - Фрейд и будущее краткое содержание
Фрейд и будущее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я сказал, что взаимосвязи, что глубокие симпатии долгое время оставались неведомы обеим сторонам. И ведь в самом деле известно, что тот, кого мы сейчас чествуем, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа как терапии и общенаучного метода, прошел тяжкий путь своих открытий совершенно один, совершенно самостоятельно, только как врач и естествоиспытатель, не ведая о тех средствах утешения и утверждения, какие могла бы предоставить ему большая литература. Он не знал Ницше, у которого повсюду встречаются молниеподобные предвосхищения фрейдовских открытий; не знал Новалиса, чьи романтически-биологические грезы и озарения так поразительно близки аналитическим идеям; не знал Кьеркегора, чье христианское мужество при психологических крайностях очень понравилось бы ему и пошло бы на пользу; не знал он, конечно, и Шопенгауэра, этого грустного симфониста философии страстей, жаждущей и избавления, и возврата назад... Так, наверно, и должно было случиться. На собственный страх и риск, не зная интуитивных предвосхищений, он, наверно, и должен был методически завоевывать свои открытия: ударная сила его познания, вероятно, возросла благодаря такой неблагоприятности, и вообще, одиночество неотделимо от его строгого образа то одиночество, о котором говорит Ницше, когда в своем восхитительном эссе "Что означают аскетические идеалы?" называет Шопенгауэра "истинным философом, воистину самостоятельным умом, мужчиной и рыцарем с металлическим взглядом, человеком, имеющим мужество быть самим собой, способным выстоять в одиночестве, не прятаться ни за чью спину, не ждать указки свыше"...
В образе этого "мужчины и рыцаря", рыцаря между смертью и чертом, я и привык видеть психолога бессознательного, с тех пор как его духовная фигура вошла в поле моего зрения.
Произошло это поздно; гораздо позднее, чем того можно было ожидать при родстве поэтическо-писательского импульса вообще и моей натуры в частности с этой наукой. Создают такое родство прежде всего две тенденции: во-первых, любовь к правде, чувство правды, чуткость и восприимчивость к прелести и горечи правды, проявляющиеся главным образом в психологической чувствительности и зоркости, причем до такой степени, что понятие правды почти поглощается понятием психологического восприятия и познания; а во-вторых, понимание болезни, некая уравновешенная здоровьем близость к ней и чувство ее продуктивного значения.
Что касается любви к правде, болезненно-моралистской любви к правде как психологии, то она идет от высокой школы Ницше, у которого и в самом деле бросается в глаза совпадение правды и психологической правды, познающего с психологом. Его гордость за правду, само его понимание честности и интеллектуальной чистоплотности, его мужество знания и его печаль знания, его самопознавательство, самоистязательство - все это имеет психологический смысл, носит психологический характер, и мне никогда не забыть той воспитательной поддержки, того углубления, какое получили мои собственные задатки от зрелища психологической страсти Ницше. Слова "омерзение познания" есть в "Тонио Кр?гере". У них вполне ницшеанский чекан, и юношеская их грусть указывает на гамлетовскую черту в натуре Ницше, в которой, как в зеркале, отразилась моя собственная натура, призванная к знанию, но, в сущности, не рожденная для него... Я говорю сейчас о юношеских болях и горестях, зрелые годы сделали их светлее, спокойнее. Но склонность понимать правду и знание психологически, отождествлять их с психологией, ощущать волю к психологической правде как волю к правде вообще, а психологию как правду в самом прямом и самом отважном смысле слова - эта склонность, которую следует, пожалуй, назвать натуралистической и приписать воспитанию литературным натурализмом, у меня осталась и составляет предпосылку для интереса к той естественной науке о душе, что носит название "психоанализ".
Вторая тенденция, повторяю, - это понимание болезни, вернее - болезни как средства познания. Тенденцию эту тоже можно было бы возвести к Ницше, который, наверно, знал, чем он обязан своей болезни, и на каждой странице как бы учит, что никакого глубокого знания без опыта болезни не бывает и всякое высшее здоровье должно было пройти через болезнь. И это понимание, стало быть, тоже можно было бы вывести из встречи с Ницше, если бы оно не было соединено тесными узами с сутью духовного человека вообще и писателя в особенности, более того, с сутью всякой человечности, всякого человеколюбия, ведь писатель лишь крайнее их проявление. "L'humanite, - сказал Виктор Гюго, - s'affirme par l'infirmite", - слова эти с гордой откровенностью признают хрупкую конституцию всякой высокой человечности и культуры, их осведомленность в области болезни. Человека назвали "больным животным" из-за обременительной напряженности и отличительных тягот, которые возлагает на него его положение между природой и духом, между животным и ангелом. Надо ли поражаться, что со стороны болезни науке удались самые глубокие прорывы в темноту человеческой природы, что болезнь, особенно невроз, оказалась первейшим средством антропологического познания?
Писатель - последний, кто этому поразился бы. Скорее его удивило бы, что при такой сильной общей и личной предрасположенности он столь поздно обнаружил симпатические связи своего существования с психоаналитическими исследованиями и трудом жизни Фрейда - только тогда, когда это учение давно уже состояло не просто в некоем - признанном или спорном - методе лечения, когда оно давно переросло чисто медицинские пределы и стало всемирным движением, захватившим всевозможные области духа и науки: литературо- и искусствоведение, историю религии и первобытную историю, мифологию, этнографию, педагогику и прочее благодаря расширительным и прикладным стараниям приверженцев, которые создали вокруг его психиатрически-медицинского ядра эту ауру всеобщего воздействия. Было бы даже преувеличением сказать, что пришел к психоанализу: он пришел ко мне. Через дружественный интерес, который он через отдельных своих последователей и представителей снова и снова, от "Маленького господина Фридемана" до "Смерти в Венеции", до "Волшебной горы" и романа об Иосифе, оказывал моей работе, он дал мне понять, что у меня есть с ним что-то общее, что я тут по-своему в какой-то мере "кумекаю", заставил меня, как ему и подобало, осознать скрытые, "подсознательные" симпатии. А занятия аналитической литературой позволили мне узнать за одеждой научной точности в мыслях и языке многое архизнакомое по прежнему духовному опыту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

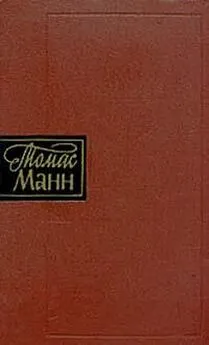

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)