Бана - Кадамбари
- Название:Кадамбари
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир, Наука
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-221-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бана - Кадамбари краткое содержание
Кадамбари - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В версиях «Великого сказа» Маноратхапрабха рассказывает о своей встрече с Рашмиматом в нескольких словах: гуляя по берегу озера, она повстречала молодого аскета, пленилась его красотой и, подойдя к нему ближе, спросила, кто он [КСС, 90—92; БКМ 206—208]. Соответствующий эпизод встречи Махашветы с Пундарикой расцвечен в «Кадамбари» серией описаний месяца Мадху ( *), гуляния по берегу озера Аччходы ( *), цветочного аромата, привлекшего внимание Махашветы к Пундарике ( *), внешности Пундарики ( *), влюбленности Махашветы ( *), влюбленности Пундарики ( *), размышлений Махашветы, перед тем как она решается приступить к расспросам ( *).
Итак, развертывание эпизода, как правило, происходит в «Кадамбари» за счет введения орнаментальных описаний. Но не обязательно описаний. Любой поступок или решение героев распадается в романе на цепочку действий и противодействий, колебаний и рассуждений, уточняющих и дополняющих сюжетных ходов. В «Катхасаритсагаре», например, Маноратхапрабха в заключение своего рассказа говорит, что после гибели Рашмимата и обещания некоего божества, что влюбленные встретятся вновь, она «отказалась от мысли о смерти и осталась здесь (на берегу озера. — П. Г. ), сохраняя надежду и посвятив себя служению Шиве» [КСС 114]. Столь же кратко сказано о решении Маноратхапрабхи стать подвижницей в «Брихаткатхаманджари» [БКМ 219]. Иначе обстоит дело в «Кадамбари».
Прежде чем принять решение, Махашвета, которая раньше хотела покончить с собой, спрашивает совета у своей подруги Таралики. Та уверяет ее, что «божества не лгут даже во сне, тем более наяву» ( *), и умоляет оставить мысль о самоубийстве. Махашвета колеблется («А я — то ли от жажды жить, которую нелегко преодолеть любому смертному, то ли по слабости женской натуры, то ли ослепленная пустой мечтой, порожденной словами божественного мужа, то ли уповая на возвращение Капинджалы — не решилась сразу же распрощаться с жизнью. Чего только не делает с нами надежда!» — *) и проводит бессонную ночь в жестоких страданиях ( *). Лишь на рассвете она делает окончательный выбор: «В память о Пундарике я взяла себе его кувшин для воды, одежду из льна и четки и — убедившись в тщете мирской жизни, уразумев скудость моих достоинств, видя жестокость гнетущих человека несчастий, от которых нет лекарства, постигнув неотвратимость горестей, познав суровость судьбы, уяснив губительность любых привязанностей, утвердившись в мысли о непостоянстве всех вещей, понимая случайность и призрачность всякой удачи — я поступилась любовью отца и матери, покинула родичей и слуг, отвратила ум от земных радостей и приняла обет подвижничества. Я всецело предалась Шиве и только в нем, оплоте трех миров, защитнике беззащитных, стала искать прибежище» ( *).
Но и на этом рассказ Махашветы о своем решении не кончается. К ней приходят отец и мать и умоляют вернуться домой. Отец проводит с царевной несколько дней и, лишь отчаявшись переубедить ее, удаляется. «И с момента его ухода, — заключает рассказ Махашвета, — я живу в этой обители вместе с Тараликой в глубокой скорби, ручьями слез изливаю свою преданность Пундарике, изнуряю в аскетическом рвении свое несчастное, исхудавшее от любви, потерявшее стыд тело — вместилище греха и тысяч мук и страданий, перечисляю в часы молитвы добродетели моего возлюбленного, питаюсь плодами, кореньями и водой, три раза в день совершаю омовение в озере и каждодневно почитаю жертвами владыку Шиву» ( *).
Прибегая при обработке заимствованного сюжета к детализации и членению повествования, отступлениям и описаниям, изобилующим поэтическими фигурами, Бана недвусмысленно ориентировался на нормы «высокой поэзии» — кавьи, для которой неторопливость изложения, орнаментальность, украшенность были основополагающими принципами. Но непременным условием кавьи, с точки зрения и поэтической теории, и литературной практики на санскрите, была также ее способность многообразно отражать человеческие чувства (бхавы) и воплощать эстетическую эмоцию — расу [69]. И во вступительных стихах к «Кадамбари», утверждая, что его повесть (катха) радует новыми описаниями, содержащими разного рода украшения-аланкары, Бана в то же время видит ее важнейшее достоинство в том, что она возбуждает расу: «Как молодая жена, полная страсти, подойдя к постели любимого, пленяет его сердце красотой и живостью речи, так эта катха ‹пленяющая красотой и живостью речи, возбуждает в сердце человека восхищение› — своею расой» [70](строфа восьмая).
Согласно воззрениям санскритской поэтики, раса возбуждается совокупностью представленных в произведении возбудителей и симптомов чувств (вибхавами и анубхавами), а также изображением сопутствующих преходящих настроений (вьябхичарибхава), но никак не простым называнием эмоции. «Ибо в поэтическом произведении, — пишет в трактате «Дхваньялока» Анандавардхана, — где лишь названы по имени эротическая или другая раса, но возбудители и прочее не представлены, ни малейшего восприятия расы не будет» [ДЛ, с. 84].
Если с этой точки зрения взглянуть на текст «Брихаткатхаманджари» и «Катхасаритсагары», то нетрудно убедиться, что всякий раз, когда заходит речь о чувствах героев, в обоих памятниках о каких-либо проявлениях и признаках чувства или вообще не говорится, или говорится вскользь, простым названием. Так, Кшемендра в «Брихаткатхаманджари», касаясь центрального события своего рассказа — зарождения любви Сомапрабхи и Макарандики, ограничивается немногословной констатацией: «Когда Макарандика увидела прекрасного Сомапрабху, сердце ее, наполнившись потоком радости, сделалось подобным макаре (эмблеме бога любви. — П. Г. ). Также и царевич, глядя на ту, чьи глаза продолговаты, как у луны, преисполнившись восхищения, стал жертвой любви. У них, юных, началось пиршество пота, трепета, подъятия волосков, свидетельствующее о вспыхнувшей взаимной страсти» [БКМ 233—235].
Еще более лаконично говорит об этом Сомадева: «И когда она (Маноратхапрабха. — П. Г. ) рассказала о нем (Сомапрабхе. — П. Г. ), сердце Макарандики сразу же было похищено этим Сомапрабхой. И он, тоже приняв ее в свое сердце, точно воплощенную Лакшми, подумал: „Кто тот счастливец, который станет ее супругом?“» [КСС 130—131]. Естественно, что такая сухая информация не могла, да и не была призвана возбудить у читателя эмоциональный отклик.
В отличие от версий «Великого сказа», в романе Баны тема влюбленности Чандрапиды и Кадамбари реализуется множеством общих и частных описаний, изображением примет и нюансов вспыхнувшего чувства, его спада и нарастаний.
Вслед за подробным описанием внешности Кадамбари, какой она впервые предстает взорам Чандрапиды ( *), Бана в форме внутреннего монолога отображает волнение Чандрапиды, мысленно восхищающегося ее красотой ( *). Затем внимание переключается на Кадамбари, и ее душевное состояние описывается серией из восьми аланкар вьяджокти — «предлог» (попытка скрыть под каким-нибудь предлогом истинные переживания), последовательно воспроизводящих так называемые саттвика-бхавы — непроизвольные выражения чувства (такие, как появление пота или слез, участившееся дыхание, сбивчивая речь и т. п.):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

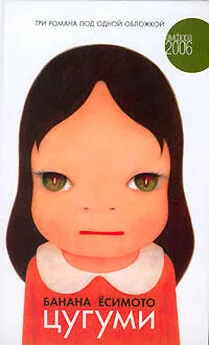
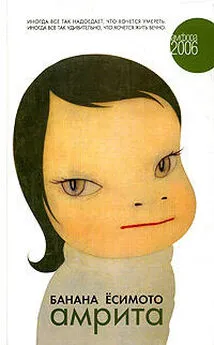
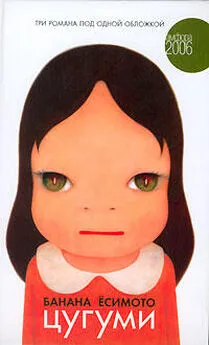

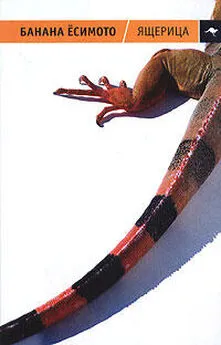
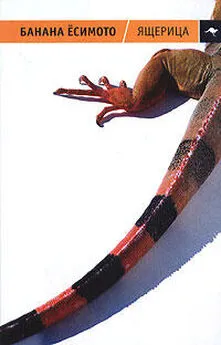
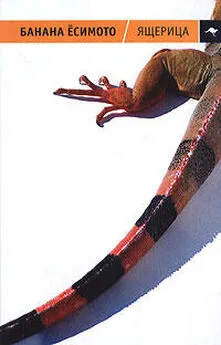
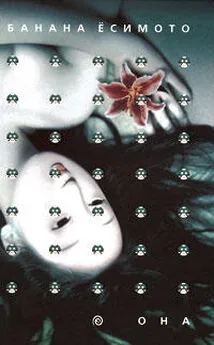
![Зденек Слабый - Три банана, или Пётр на сказочной планете [с иллюстрациями]](/books/447543/zdenek-slabyj-tri-banana-ili-petr-na-skazochnoj-pl.webp)