Бана - Кадамбари
- Название:Кадамбари
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир, Наука
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-221-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бана - Кадамбари краткое содержание
Кадамбари - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Соотнесение персонажей, явлений и предметов по признаку белизны с луною — важнейший стилистический топос «Кадамбари». Как правило, он реализуется прямыми сравнениями и отождествлениями, но иногда косвенно, с помощью приема «подмены», невольной ошибки. Так, Кадамбари дарит Чандрапиде жемчужное ожерелье Шешу, которое можно принять «за первопричину белизны Молочного океана, или за двойника месяца, или за стебель лотоса, растущего из пупа Нараяны, или за сгусток амриты, взбитой горой Мандарой при пахтанье океана, или за старую кожу Васуки, сброшенную им от усталости, или за улыбку Лакшми, забытую ею в отчем доме [64], или за связанные нитью осколки месяца, раздробленного горой Мандарой, или за отражения звезд, поднявшихся из волн океана, или за собранные воедино брызги воды из хоботов слонов — хранителей мира, или за звездную диадему на голове Маданы, принявшего образ слона» ( *). Но, еще не зная об ожерелье, Чандрапида по белому блеску, от него исходящему, вообразил, что среди дня взошла луна: «Внезапно Чандрапиде показалось, что день, будто в воде, потонул в ослепительном белом сиянии, что блеск солнца будто выпит стеблями лотосов, что земля будто плавает в Молочном океане, что стороны света будто обрызганы сандаловым соком, что небо будто смазано белой мазью. И он подумал: „Неужели так быстро взошел благой месяц, повелитель холодных лучей, владыка трав?“» ( *). «Ошибка» Чандрапиды намеренно заключает в себе имплицитное сравнение Шеши с той же луною.
Наряду с эпитетом «белый» к самого разного рода объектам в «Кадамбари» постоянно прилагаются эпитеты «сияющий», «холодный», «лучистый» и т. п., которые в мифологических текстах также являются постоянными атрибутами месяца, и изобразительный слой романа с помощью и этих эпитетов органично сопрягается с его мифологическим фоном, накладывается на мифологический сюжет.
Использование Баной мифологического сюжета не вызывает удивления. Древнеиндийская мифология — основной источник и строительный материал санскритской литературы, в отношении которой подобная ситуация не в меньшей степени очевидна, чем в отношении литературы античной и других литератур древности. Мифологичны в своем подавляющем большинстве мотивы и сюжеты санскритской литературы, из мифологической традиции почерпнуты ее главные персонажи, к мифологическим архетипам восходят ее композиционные схемы, мифологические клише составляют основу ее стилистики. С полным правом о мифе можно говорить как об универсальном языке этой литературы. Однако при всей насыщенности мифологией произведения древнеиндийской литературы никак не являются собственно мифологическими текстами. Не были таковыми уже ведийские памятники, тем более эпос («Махабхарата» и «Рамаяна») и конечно же авторские сочинения (поэма, драма, лирика, проза) классической эпохи. Миф становится средством достижения иных целей: мировоззренческих, дидактических, литературных. И поэтому в изучении связей санскритской литературы с мифологией важнейшая проблема — это проблема использования мифа, разнопланового и разнохарактерного в различных памятниках.
Роман Баны интересен с этой точки зрения в двух отношениях. Во-первых, Бана не заимствует, не берет в готовом виде, а конструирует свой лунный миф. В случае с «Кадамбари» (как это вообще характерно для произведений традиционалистской литературы) мы вправе говорить не о мифотворчестве, создании новых мифов, но лишь о более или менее свободном варьировании сложившейся традиции. Не порывая с мифологическими корнями санскритской литературы, Бана трансформирует лунный миф, по-своему компонует его традиционные элементы, приспособляя к романической теме, не извлекает тему из мифа, а как бы посредством мифа ее освящает и углубляет.
Во-вторых, трансформация мифа в «Кадамбари» связана с тем, что ему придана в романе особая функция. В памятниках традиционалистской литературы мифологическая основа произведения всегда сочетается с иного рода смысловыми наслоениями, приобретает ритуальные, философские, назидательные, развлекательные и другие функции, и преобладание той или иной функции определяет в конечном счете жанровую и временную стратификацию текстов. В классической санскритской литературе, точнее в литературе кавья, в согласии с нормами санскритской поэтики мифологические модели, мотивы и образы используются под знаком доминирующей в ней эстетической функции. Бана, как мы видели, делает миф инструментом особого рода эстетической «игры», актуализирует его не столько на содержательном, сколько на изобразительном, стилистическом уровне, скрепляет с его помощью композиционную структуру романа. Из всех возможных интерпретаций мифа, которые свойственны традиционалистской словесности, Бана избирает интерпретацию эстетическую и в этом плане перерабатывает заимствованный из «Великого сказа» сюжет.
Переработка Баной рассказа о Суманасе не сводилась, однако, только к замене центрального мифа о видьядхарах собственным вариантом лунного мифа. И «Катхасаритсагара», и «Брихаткатхаманджари», и, вероятно, сама «Брихаткатха», где был этот рассказ, представляли собой собрания сказаний, легенд, преданий, почерпнутых из различных жанров повествовательного фольклора и сохраняющих, несмотря на художественное, авторское переложение (в частности, и переложение в стихотворную форму), полуфольклорный характер. Бана же создает произведение высокой прозы — роман-кавью и переводит заимствованный сюжет из чисто нарративного регистра в регистр «украшенного стиля», который характерен для большинства произведений классической санскритской литературы. Сравнивая рассказ о Суманасе в «Катхасаритсагаре» и «Брихаткатхаманджари» с рассказом «Кадамбари», исследователи отмечают, что первый «гораздо проще», чем второй, а второй «значительно более изящен» [65]. Как же практически, текстуально выражено это различие?
«Кадамбари» — произведение большого объема: с продолжением Бхушаны оно заняло бы в русском переводе около 20 печатных листов. Между тем рассказ о Суманасе изложен в «Катхасаритсагаре» в 157 шлоках-двустишиях [КСС X.3.22—178], а в «Брихаткатхаманджари» всего лишь в 66 шлоках [БКМ XVI.183—248] [66]. При том, что в сравнении с версиями «Великого сказа», как мы говорили, никаких сколько-нибудь существенных изменений в течении сюжета и конкретном содержании эпизодов «Кадамбари» не предлагает, столь серьезное расширение объема (соответственно в сорок и сто раз) достигается в первую очередь за счет множества орнаментальных отступлений и добавлений.
В «Кадамбари» немногим больше персонажей, чем в «Катхасаритсагаре» или «Брихаткатхаманджари». Но если в изводах «Великого сказа» при появлении того или иного персонажа просто упоминается его имя и в лучшем случае оно сопровождается одним-двумя эпитетами или весьма краткой характеристикой, то в «Кадамбари» буквально каждый герой, и главный и третьестепенный, как правило, подробно описывается. Возьмем, например, эпизод встречи царя Шудраки (в КСС и БКМ — царя Суманаса) с девушкой-чандалой (в КСС и БКМ — девушкой-горянкой: śabara-kanyā или bhilla-kanyā).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

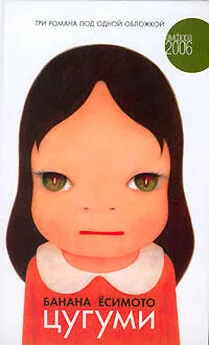
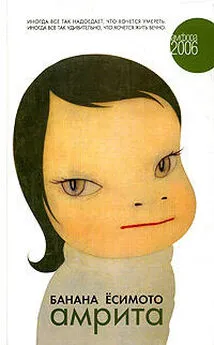
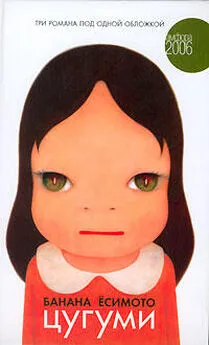

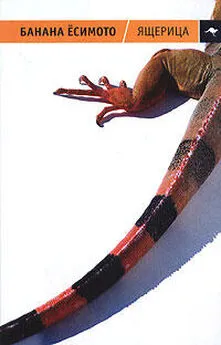
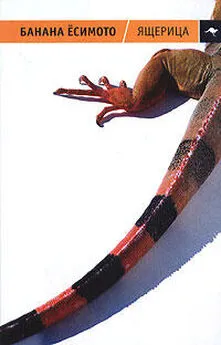
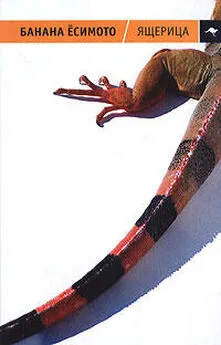
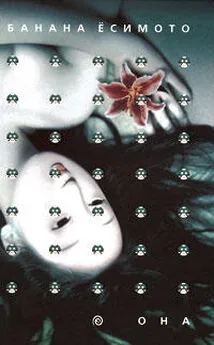
![Зденек Слабый - Три банана, или Пётр на сказочной планете [с иллюстрациями]](/books/447543/zdenek-slabyj-tri-banana-ili-petr-na-skazochnoj-pl.webp)