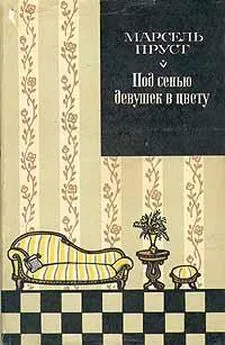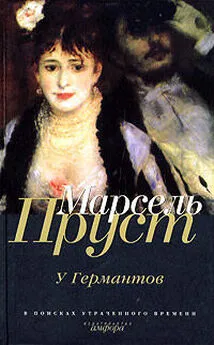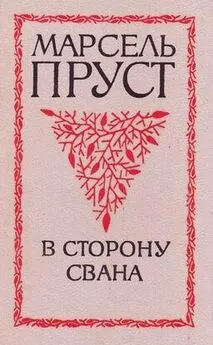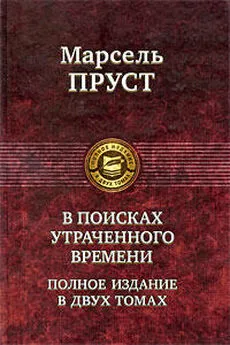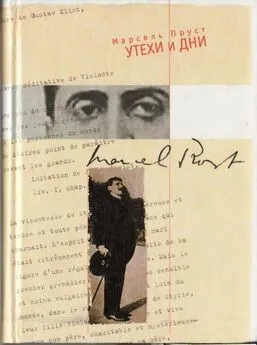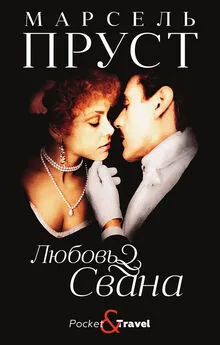Марсель Пруст - Сторона Германтов
- Название:Сторона Германтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18722-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Сторона Германтов краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Сторона Германтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тут я оторвал взгляд от ложи принцессы Германтской, потому что меня отвлекла маленького роста женщина, плохо одетая, некрасивая, с горящими глазами, усевшаяся вместе с двумя молодыми людьми через несколько кресел от меня. Потом поднялся занавес. Я не мог не печалиться, думая о том, что ничего не осталось от моей прежней готовности мчаться хоть на край света, чтобы, ничего не упуская, наблюдать какое-нибудь необыкновенное явление; тогда мой ум был всегда наготове, подобно тем высокочувствительным пластинкам, которые астрономы привозят в Африку или на Антильские острова, чтобы тщательнейшим образом изучить комету или затмение [23] …подобно тем высокочувствительным пластинкам… изучить комету или затмение … — Дагеротипия использовалась для наблюдений за астрономическими явлениями еще с середины XIX в., но здесь Пруста, как указывает французский комментатор, вдохновило появление кометы Галлея в 1910 г.; во время ее прохождения астрономам удалось сделать множество фотографий.
; тогда я трепетал, что какая-нибудь туча (или дурное настроение артистки, или шум в публике) помешает зрелищу явиться в полную силу; тогда я полагал, что это уже будет совсем не то, если я приеду не в тот самый театр, что считается святилищем этой артистки и где существенной, хотя и второстепенной частью ее появления под маленьким красным занавесом мне казались контролеры с белыми гвоздиками, которых нанимала она сама, изгиб галереи, нависающей над амфитеатром, полным плохо одетых людей, капельдинерши, продававшие программки с ее фотографией, каштаны на площади, все эти собратья и сподвижники моих тогдашних впечатлений, представлявшиеся мне накрепко с ними слитыми. «Федра», сцена объяснения [24] «Федра», сцена объяснения … — Имеется в виду, конечно, трагедия Расина (1677). В явл. 5 дейст. 2 Федра объясняется Ипполиту в любви.
, Берма, — для меня их существованье было безраздельно. Они существовали сами по себе, в стороне от мира повседневного опыта, до них надо было добраться, я впитывал из них лишь то, что мог, а распахнув глаза и душу пошире, мог уловить еще самую каплю. Но какая это была радость! То, что доныне я вел такую незначительную жизнь, оказывалось безразлично, не важнее, чем минуты, потраченные на одевание, на сборы перед уходом из дому, потому что вне всего этого существовало нечто настоящее, хорошее, то, до чего нелегко добраться, чем невозможно обладать, нечто надежное, — «Федра» и манера Берма произносить слова роли. Насыщенный этими мечтами о совершенстве в драматическом искусстве, мечтами, которые в любое время дня, а то и ночи можно было бы извлечь из моей головы в огромных количествах, если бы кому-нибудь в те времена вздумалось проанализировать ее содержимое, я был словно гальванический элемент, вырабатывающий электричество. Было время, когда я пошел бы слушать Берма, даже если бы чувствовал, что умираю. Но теперь, подобно холму, что издали кажется лазурным, а вблизи вписывается в круг самых заурядных предметов, открытых нашему взору, все это покинуло область непреложного и превратилось в такое же явление, как все прочие: я все видел и слышал, потому что оказался здесь, артисты были сделаны из того же теста, что мои знакомые, они старались как можно лучше произнести строки из «Федры», а сами строки уже не были совершенно особыми, не поражали высшим смыслом и неповторимостью — это были недурные стихи, вполне достойные войти в огромную кладовую французской поэзии, с которой были тесно связаны. Вдобавок, хотя предмет точившего меня упрямого желания более не существовал, зато никуда не делся вкус к упорным мечтам, менявшимся от года к году, но неизменно приводившим меня к внезапным порывам, не считавшимся с опасностью; от этого мое разочарование бывало еще мучительней. Какой-нибудь день, когда я отправлялся больной посмотреть на картину Эльстира в таком-то замке или на готическую шпалеру, был точь-в-точь похож на давно минувший день, когда мне предстояло уехать в Венецию, или на тот, когда я ходил слушать Берма, или уезжал в Бальбек, а потому я заранее чувствовал, что предмет, ради которого я иду на жертвы, очень скоро станет мне безразличен, и даже если я окажусь совсем близко от него, то, возможно, не пойду взглянуть на эту картину, на эти шпалеры, ради которых согласен был терпеть и бессонные ночи, и приступы болезни. Цель моих усилий была так неустойчива, что я чувствовал, насколько тщетны сами усилия, и в то же время — какие они титанические, точь-в-точь неврастеник, который чувствует себя вдвое более усталым, если заметить ему, что он устал. А между тем моя мечтательность окружала ореолом все, на что обращалась. И даже в самых плотских моих желаниях, всегда устремленных в определенную сторону, сосредоточенных вокруг одной и той же мечты, я узнавал тот же первый импульс, ту же идею, за которую готов был жизнь отдать; в самом центре ее, как в тех грезах, что одолевали меня в Комбре вечерами, проведенными за чтением, стояло понятие совершенства.
Теперь я уже без прежней снисходительности следил, как добросовестно стараются Арисия, Исмена и Ипполит передать словами и игрой нежность или гнев. И не то чтобы эти артисты — а они были те же самые — не пытались по-прежнему и так же осмысленно придать голосу то льстивый тембр, то нарочитую двусмысленность, а жестам то безудержный трагизм, то выражение кроткой мольбы. Их интонации приказывали голосу: «Будь нежным, пой соловьем, ласкай слух» или наоборот «Звучи яростно», а потом накидывались на него, заражая своим буйством. Но мятежный голос, отстраняясь от их декламации, не шел на уступки и оставался таким, каков он был от природы, сохранял свои постоянные изъяны или прелестный тембр, вульгарность или фальшь, и в нем явственно слышались все его акустические и социальные особенности, а чувство, заключенное в стихах, которые он произносил, на него не влияло.
И жестикуляция этих артистов точно так же говорила их рукам и пеплумам: «Будьте величественны!» Но непокорные руки шевелили от локтя до плеча бицепсами, которые знать не знали о роли: они продолжали толковать о ничтожной повседневности, а вместо расиновских нюансов выставляли напоказ игру мускулов и вздымали драпировки, ниспадавшие в согласии с законами падения тел, умерявшимися только вялой податливостью тканей. Тут моя соседка воскликнула:
— Ни одного хлопка! И что она на себя напялила! Постарела, никуда не годится, в таких случаях пора на покой.
Соседи на нее зашикали, молодые спутники пытались ее урезонить, и теперь ярость полыхала только у нее в глазах. Причем эта ярость явно была вызвана успехом, славой, ведь за душой у Берма при всех ее огромных заработках были одни долги. Она вечно отменяла назначенные свидания, деловые и дружеские, на которые ей некогда было явиться, по улицам вечно спешили ее посыльные с поручением отказаться от гостиницы или квартиры, которые она снимала заранее, но никогда в них не въезжала, отменить заказ на море духов для мытья собак, уплатить неустойку директорам всех театров. А если более существенных расходов не было, она, даром что не отличалась сладострастием Клеопатры, все равно ухитрялась проматывать целые царства — на пневматички и наемные экипажи от «Юрбен» [25] «Юрбен» — название одной из наиболее крупных парижских компаний, сдававших внаем фиакры и разнообразные экипажи.
. Но миниатюрная дама была актрисой-неудачницей и смертельно ненавидела Берма. А Берма как раз вышла на сцену. И тут, о чудо, произошло то, что бывает, когда учишь вечером урок, изнуряешь себя, и все зря, а наутро, проснувшись, обнаруживаешь, что помнишь задание наизусть; или когда, страстно напрягая память, пытаешься представить себе лицо человека, который умер, — и не можешь, а потом, когда уже о нем не думаешь, он вдруг встает у тебя перед глазами совсем как живой: талант Берма, ускользавший от меня, когда я так жадно пытался добраться до самой его сути, теперь, спустя годы забвения, пробился сквозь мое безразличие, предстал мне со всей непреложностью — и я пришел в восторг. Когда-то, пытаясь представить себе ее талант в чистом виде, я стремился отделить то, что видел и слышал, от самой роли, общей для всех актрис, игравших Федру; я заранее изучил эту роль, желая изъять ее, чтобы в остатке оказался только талант мадам Берма. Но талант, который я искал отдельно от роли, существовал только в слиянии с ней. То же самое происходит с любым великим музыкантом (кажется, так было с Вентейлем, когда он принимался музицировать): если играет такой великий пианист, ты уже не понимаешь, в самом ли деле это пианист, потому что, когда он играет, дело совсем не в череде мускульных усилий, тут и там увенчанных блестящими эффектами, не во всей этой мешанине нот, в которой слушатель, особенно неискушенный, усматривает талант во всей его материальной ощутимости и весомости; его игра так прозрачна, так насыщена тем, что он исполняет, что самого исполнителя уже не видно: он превратился в окно, сквозь которое виден шедевр. Я различал замыслы Арисии, Исмены, Ипполита, окружавшие их голоса и мимику словно каймой, то величественной, то изысканно-тонкой; но у Федры все это оставалось внутри, и я не в силах был мысленно оторвать ее находки, ее взлеты от того, как она произносит текст, какие позы принимает, уловить в строгой простоте, в мнимой монотонности ее игры эти приемы, которые из этой игры не выбивались, потому что пропитали ее насквозь. В голосе Берма не оставалось ни одного звука, призванного просто заполнить пустоту, ничего ускользнувшего от осмысления, он не расплескивал вокруг актрисы излишек слез, — не то что мраморные голоса Арисии и Исмены, истекавшие слезами, потому что не умели впитать их в себя; нет, ее голос смягчался до последней частички, как инструмент великого скрипача, о котором говорят, что у него прекрасный звук, желая похвалить не физические особенности звучания, а возвышенную душу; и как в античном пейзаже на месте исчезнувшей нимфы бьет неодушевленный источник, так конкретный и внятный замысел преобразовывался в ее голосе в особое качество тембра, в странную, уместную и холодную прозрачность. Руки Берма словно подчинялись самим стихам в том же порыве, что исторгал слова из ее уст, вздымались над ее грудью подобно листьям, уносимым потоком воды; ее манера держаться на сцене развивалась медленно, постепенно менялась; она вырабатывалась путем мыслительных усилий совсем другой глубины, чем те, что отразились в жестах других актрис: зримые результаты ее мысли словно отрывались от замысла и растворялись в окружавшем Федру сиянии, в трепете богатых и сложных его стихий, которые очарованный зритель принимал не за достижение актрисы, а за приметы самой жизни; а белые покрывала, изнемогающие, покорные, казались живой материей, будто сотканные полуязыческим, полуянсенистским страданием, вокруг которого они тесно обвивались, образуя хрупкий трепетный кокон; и все это — голос, манера держаться, жесты, покрывала — витало вокруг тела этой мысли, то есть стиха (причем оно, в отличие от человеческих тел, не было мутным заслоном, мешающим рассмотреть душу, но чистейшим и свежайшим ее одеянием, и она лучилась в нем, доступная созерцанию); все это было только дополнительными пеленами, не скрывавшими, а возвеличивавшими душу, пока она уподоблялась им и наполняла их; все это было только потоками разных прозрачных субстанций, которые, накладываясь друг на друга и преломляясь, еще ярче заставляли сверкать заточенный в них и пронзавший их насквозь центральный луч, еще шире распространяли во все стороны окружавшую его материю, все более драгоценную, прекрасную и насыщенную пламенем. Игра Берма творила второе произведение искусства вокруг первого, и это второе тоже одухотворял гений.
Интервал:
Закладка: