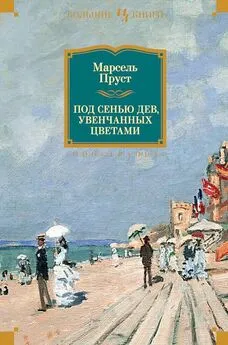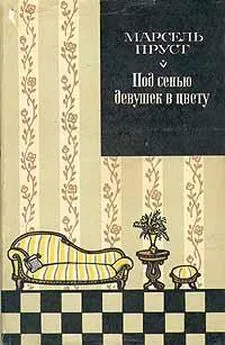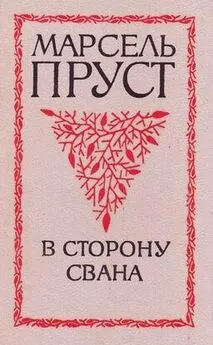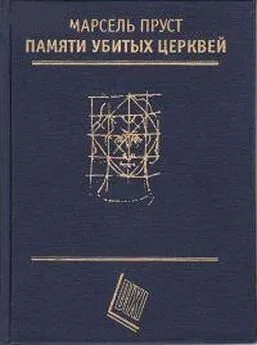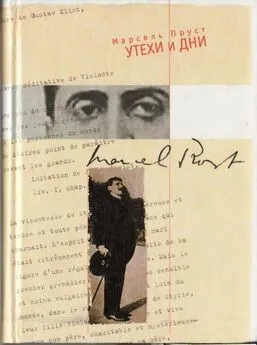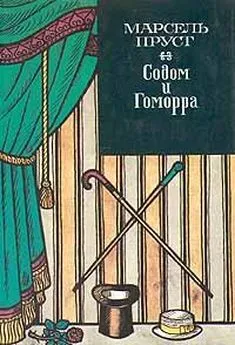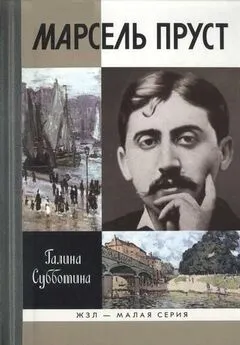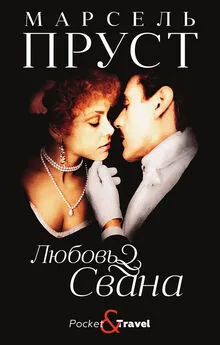Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами
- Название:Под сенью дев, увенчанных цветами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18721-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами краткое содержание
Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Под сенью дев, увенчанных цветами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На смену простому очарованию первых дней пришли робкие попытки любви, колебавшейся между всеми девушками, ведь каждая из них была необходимым продолжением другой. Если бы та из них, которую я выбрал, меня оттолкнула, это бы не стало для меня такой уж страшной печалью; нет — но я был изначально обречен выбрать ту из них, которая меня оттолкнет, потому что именно с ней бы у меня связывалась та совокупность мечты и печали, что витала вокруг всех. Вдобавок мне предстояло грустить не только по той, что меня отвергла, но в ее образе, безотчетно, и по всем ее подругам, в чьих глазах я бы тоже утратил всё былое обаяние: ведь я пылал к ним той собирательной любовью, что питают политик к народу или актер к публике, которые потом, вкусив радости этой любви, так никогда и не могут утешиться в ее утрате. Во мне внезапно просыпалась надежда, что даже те радости, которых я так и не добился от Альбертины, подарит мне одна из ее подруг — та, что при расставании со мной нынче вечером сказала мне что-то неясное, поглядела на меня как-то двусмысленно, и после этого меня целый день тянуло именно к ней.
Влечение мое сладострастно рыскало среди них, тем более что черты их подвижных лиц понемногу начинали приобретать постоянство и уже можно было разглядеть их будущий облик, пускай податливый, колеблющийся, еще подверженный переменам. Пожалуй, различия в их чертах — крупнее или мельче, резче или тоньше — совсем не отражали разницы между самими девушками: их лица, при всей кажущейся несхожести, еще словно совпадали, наслаивались друг на друга. Но наше знание лиц не имеет ничего общего с математикой. Прежде всего оно начинается не с измерения частей: мы исходим из выражения, из общего впечатления. У Андре, например, проницательность кротких глаз словно перекликалась с изяществом носа, так тонко очерченного, будто его нарисовали единым движением пера, стремясь продолжить тот порыв к чуткости, который сперва дважды отразился в улыбающихся двойняшках-взглядах. Такая же тонкая линия делила надвое волосы, гибкая и глубокая, словно перед вами не волосы, а песок, раскиданный ветром. Видимо, это было наследственное: волосы у матери Андре, совсем седые, пушились точно так же, тут пышные, там гладкие, как снег, когда он ложится волнами, подчиняясь неровностям почвы. По сравнению с четко прорисованным носиком Андре у Розмонды нос был широковат, похож на высокую башню на мощном фундаменте. Подчас разница между двумя лицами кажется огромной, хотя на самом деле она может быть ничтожно мала; всё дело в выражении этих лиц: ничтожно малая разница между ними способна создать совершенно особое выражение, особую индивидуальность; и всё же лица девушек немыслимо было перепутать, причем не из-за этих ничтожно малых различий в чертах и не из-за оригинальности выражения. Еще более глубокое различие между лицами моих подруг создавал цвет — и не столько благодаря красоте и богатству оттенков, таких разнородных, что, глядя на Розмонду, омытую смугло-розовым румянцем, оттененным зеленоватым блеском глаз, и на Андре, чьи бледные щеки так строго, так изысканно оттенялись черными волосами, я испытывал такое же удовольствие, как если бы смотрел по очереди то на герань на берегу залитого солнцем моря, то на камелию в ночной тьме; но главное, благодаря этому новому элементу, цвету, безмерно разрастались бесконечно малые расхождения в линиях, полностью менялись соотношения плоскостей, потому что цвет — не только распределитель колорита, но и мощный восстановитель или, во всяком случае, преобразователь размеров. Поэтому лица, быть может совершенно разные по строению, смотря по тому, как они были освещены — огоньками рыжей гривы волос, розовым румянцем, матовой бледностью, — становились то удлиненными, то широкими, полностью менялись, как бутафория в русских балетах: при свете дня — обычный кружок, вырезанный из бумаги, но по воле какого-нибудь гениального Бакста, погружающего декорации то в бледно-алое, то в лунное освещение, он или становится твердой, как бирюза, инкрустацией на фасаде дворца, или мягко расцветает бенгальской розой посреди сада [301] … по воле какого-нибудь гениального Бакста… — Пруст впервые побывал на спектакле «Русских балетов» в 1910 г., а в дальнейшем видел многие из них и даже был лично знаком с русским художником Л. Бакстом (1866–1924), автором эскизов костюмов и декораций ко многим из этих спектаклей.
. Вглядываясь в лица, мы, конечно, учитываем и размер, и пропорции, но не как землемеры, а как художники.
С Альбертиной всё было так же, как с ее подругами. В иные дни лицо у нее было хмурое, осунувшееся, кожа землистого цвета; глубина глаз была прозрачно-фиолетовой, таким иногда бывает море; казалось, она тоскует, как изгнанница. В другие дни это лицо разглаживалось, к его блестящей поверхности накрепко прилипали мои страстные взгляды, а если вдруг я видел ее сбоку, оказывалось, что щеки ее, на поверхности матовые, как белый воск, изнутри просвечивают розовым, и от этого невыносимо хотелось их поцеловать, добраться до этого потаенного, скрытого розового цвета. А то еще бывало, счастье омывало ее щеки такой мимолетной ясностью, что кожа становилась бесплотной, расплывчатой, казалось, будто она, эта кожа, обладает особым подспудным зрением и состоит из того же вещества, что глаза, хотя цвет у нее совсем другой; иной раз, даже не думая об этом, когда я смотрел на ее лицо, усыпанное смуглыми точечками, среди которых витали два больших синих пятна, это было как будто взяли яйцо щегла, похожее на опаловый агат, обработанное и отполированное лишь в двух местах, там, где посреди смуглого камня светились, как прозрачные крылышки лазоревой бабочки, глаза — плоть, преображенная в зеркало, больше любой другой части лица и тела дающая нам иллюзию приближения к душе. Но чаще в ней было больше красок и благодаря этому больше жизни; иногда на ее белом лице розовым был только кончик носа, как у хитрого котенка, с которым хочется поиграть; иногда щеки у нее были такие гладкие, что взгляд скользил, словно по миниатюре, по их розовой эмали, а черные волосы, словно внутренняя сторона приоткрытой черной крышечки медальона, казались еще нежнее; а иной раз ее розовые щеки отливали фиолетовым, как цикламен, так бывало, если ей нездоровилось, если ее лихорадило, и тогда цвет ее лица производил болезненное впечатление, в нем появлялся темный пурпур некоторых сортов роз, в котором черного больше, чем красного, а взгляд становился порочнее и опаснее: тогда меня влекла к ней уже не высокая страсть, а более низменные желания; и каждая из этих Альбертин была другой: так при каждом новом явлении на сцене неузнаваемо меняется балерина — другие краски, формы, другой характер — в бесконечно разнообразном свете театральных огней. Я наблюдал в ту эпоху, как в ней уживались совершенно разные существа, и кто знает, быть может, именно потому позже у меня вошло в обыкновение самому всякий раз становиться другим человеком, смотря по тому, о какой Альбертине я думал, — ревнивым, равнодушным, сладострастным, меланхоличным, неистовым; каждый из этих образов воссоздавался согласно случайно очнувшемуся воспоминанию, а кроме того, еще зависел от того, насколько я тверд в вере, затесавшейся в воспоминание, и от того, как я это воспоминание на сей раз оценил. Ведь всякий раз приходилось обращаться именно к вере: мы почти не замечаем, насколько она заполняет нашу душу, а между тем для нашего счастья она, вера, важнее человека, которого мы видим, потому что мы смотрим на него сквозь нашу веру, это она придает мимолетное величие тому, на кого устремлены наши глаза. Ради точности мне бы следовало давать разные имена каждому «я», по очереди думавшему об Альбертине, и уж тем более подобало по-разному называть каждую из этих Альбертин, которых я вызывал к жизни, всякий раз другую, как те моря, сменявшие друг друга, которые я только для удобства называл просто морем, и всякий раз она возникала на их фоне как еще одна нимфа. Но главное, точно так, как это делается в повествованье, но с куда большей пользой, мне следовало бы связывать веру, царившую в моей душе, когда я видел Альбертину, с тем, какая в тот день была погода: ведь атмосфера, внешний вид людей и морей зависели от тех почти невидимых грозовых туч, что скапливаются в небе, летят, рассеиваются, уносятся прочь, меняя цвет людей и вещей; одну из таких туч разметал как-то вечером Эльстир, не представив меня девушкам, встреченным по дороге, и когда эти девушки уходили прочь, их образы внезапно показались мне еще прекраснее — а несколько дней спустя, когда я с ними познакомился, туча собралась опять, заволакивая их блеск, то и дело заслоняя их от моих глаз, непроницаемая и нежная, словно Левкофея у Вергилия [302] … непроницаемая и нежная, словно Левкофея у Вергилия . — Левкофея — одна из дочерей Кадма, превратившаяся в нереиду; до превращения звалась Ино. Она спасла Одиссея, когда он на плоту бежал от нимфы Калипсо и чуть не утонул. Об этом рассказано в «Одиссее» (песнь 5, стих 333 и далее). Вергилий в «Энеиде» упоминает ее под именем Ино (песнь 5, стих 823), но говорит только о том, что она мать Палемона. Имело ли для Пруста значение только то, что имя Левкофея означает «Белая богиня»? Или то, что она спасает Марселя от девушек, как нереида спасла Одиссея от Калипсо? Не беремся судить.
.
Интервал:
Закладка: