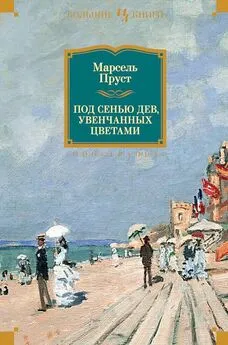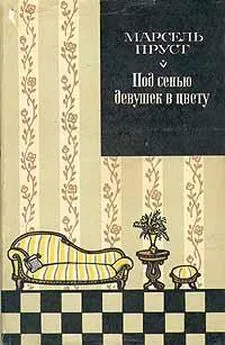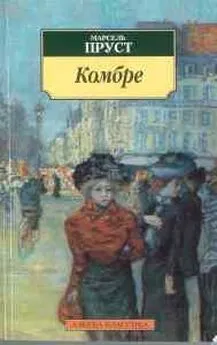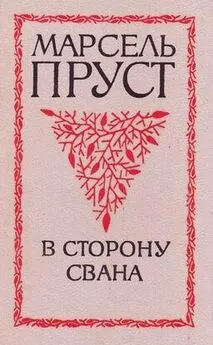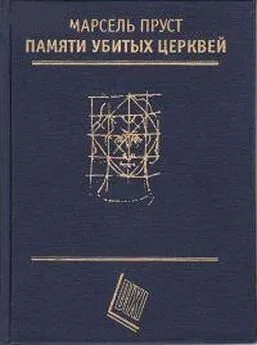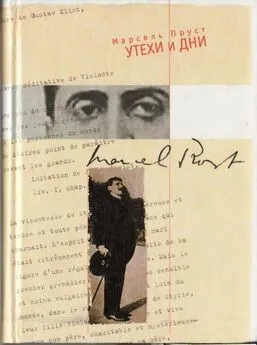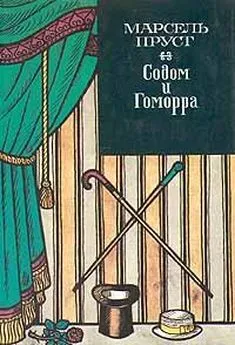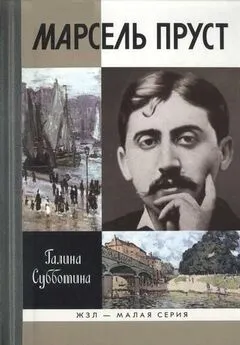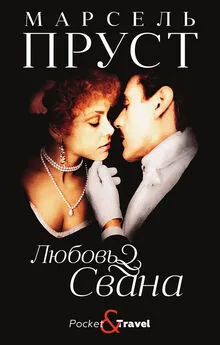Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами
- Название:Под сенью дев, увенчанных цветами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18721-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами краткое содержание
Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Под сенью дев, увенчанных цветами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И наконец, к этой причине добавилась еще одна, по которой я решительно прекратил визиты к г-же Сванн. Эта причина возникла позже; дело было в том, что я, конечно, еще не забыл Жильберту, но старался забыть ее как можно скорей. Спору нет, с тех пор как прекратились мои невыносимые муки, визиты к г-же Сванн вновь стали для меня бесценным развлечением, как это было с самого начала, а для остатков моей печали — еще и чем-то вроде болеутоляющего. Но вся польза от этого развлечения уничтожалась тем, что сами визиты были неразрывно связаны с памятью о Жильберте. Развлечения пошли бы мне на пользу, если бы в борьбе с чувством, которого больше не питало присутствие Жильберты, они вооружали меня мыслями, интересами, страстями, к которым она не имела отношения. Так состояния духа, не связанные с любимым человеком, занимают место в нашей душе, поначалу небольшое, и теснят любовь, которая раньше заполняла ее всю целиком. Пока чувство тускнеет, превращаясь в воспоминание, нужно укреплять, наращивать эти мысли, чтобы то новое, что в них содержится, спорило с чувством, отвоевывало у него всё бо́льшую часть души и в конце концов захватило ее всю. Я понимал, что это единственный способ убить любовь, я был еще достаточно юн и смел, и я готов был перетерпеть жесточайшую боль, лишь бы знать, что в конце концов победа будет на моей стороне. Теперь, объясняя Жильберте в письмах, почему я не могу с ней встретиться, я намекал на таинственное недоразумение, полностью вымышленное, которое нас разлучило; поначалу я надеялся, что Жильберта спросит у меня, в чем, собственно, дело. Но на самом деле даже при совсем пустячных отношениях адресат письма никогда не попросит, чтобы ему объяснили, о чем речь: он знает, что любая невнятная, лукавая фраза, из которой вычитывается упрек, пишется для того, чтобы он возразил, — и ему становится ясно, что он по-прежнему остается хозяином положения, а это ему приятно, и он предпочитает, чтобы так оно и было впредь. И это тем более справедливо для отношений более нежных, ведь любовь так красноречива, а равнодушие так нелюбопытно. Жильберта не усомнилась в недоразумении, не попыталась узнать, в чем дело, — и оно превратилось для меня в реальный факт, на который я ссылался в каждом письме. В таких фальшивых положениях, в притворной холодности есть какое-то колдовство: вам очень трудно от них отказаться. Я столько раз писал: «С тех пор как мы с вами в раздоре…», надеясь, что Жильберта возразит: «Какой там раздор, о чем вы?..», что в конце концов сам поверил, будто мы с ней в раздоре. Я столько раз повторял: «Как бы ни изменилась наша жизнь, она не сотрет из памяти чувство, которое нас объединяло…», желая прочесть в ответ: «Да ничего не изменилось, наше чувство живехонько…», что сам поверил — жизнь и вправду переменилась, и теперь мы сохраним воспоминание об угасшем чувстве; так невротики иной раз привыкают притворяться больными и в самом деле всю жизнь болеют. Теперь в каждом письме Жильберте я упоминал эту воображаемую перемену, разлучившую нас, а моя подруга обходила ее молчанием и тем подтверждала, что так оно и есть. Потом Жильберта перестала прибегать к умолчанию. Она усвоила мою точку зрения; и подобно тому как глава государства, наносящий визит, подхватывает в официальном тосте примерно те же выражения, которые употребила принимающая сторона, каждый раз, когда я писал Жильберте: «жизнь разлучила нас, но воспоминание о временах, когда мы были вместе, всегда пребудут с нами», она неизменно откликалась: «жизнь разлучила нас, но мы не забудем всего хорошего, что у нас было» (хотя мы затруднились бы объяснить, почему, собственно, «жизнь» нас разлучила и что, собственно, произошло). Я даже не слишком страдал. Но как-то раз я писал ей, что узнал о смерти нашей старенькой торговки леденцами с Елисейских Полей, и когда выводил слова «я подумал, что вы огорчены, да и во мне всколыхнулось немало воспоминаний», то невольно разрыдался: я заметил, что говорю в прошлом времени, словно речь о почти уже забытом покойнике, о нашей любви, о которой невольно ни на минуту не переставал думать так, словно она еще жива или хотя бы может воскреснуть. Что может быть нежнее переписки друзей, которые решили больше не встречаться! Письма Жильберты были так же изящны и деликатны, как те, что я сам писал чужим людям, полны той же благожелательности, и мне это было так приятно.
Впрочем, с каждым разом отказываться от встреч мне было всё легче. Моя привязанность к ней всё слабела, и горестные воспоминания, без конца меня посещавшие, уже бессильны были разрушить радость, которую я черпал в мыслях о Флоренции и Венеции. В эти минуты я жалел, что отказался от карьеры дипломата и обрек себя на оседлое существование, чтобы не расставаться с девушкой, которую я больше не увижу и почти забыл. Строишь свою жизнь для какого-нибудь человека, а когда наконец всё готово, человек не приходит, а потом он для тебя умирает, и в конце концов живешь пленником там, где всё предназначено для любимого существа. Родителям казалось, что Венеция слишком далеко и слишком меня возбудит, зато дорога в Бальбек была легкая и жить там было не утомительно. Но для этого надо было уехать из Парижа, отказаться от визитов, благодаря которым г-жа Сванн, пусть изредка, говорила мне о своей дочери. Впрочем, у меня понемногу стали появляться радости, в которых Жильберта была ни при чем.
С приближением весны настали холода; на «холодных святых» [145] … на «холодных святых» … — «Холодные» святые: святой Мамертий, святой Панкратий и святой Сервасий (посвященные им майские дни нередко сопровождаются заморозками).
и на Святой неделе со студеными ливнями, снегом и градом г-жа Сванн часто принимала гостей в мехах, утверждая, что дома она мерзнет; ее зябкие руки и плечи утопали в белых сверкающих покровах огромной плоской муфты и накидки (обе из горностая); возвращаясь с улицы, она их не снимала, и они напоминали последние охапки зимнего снега, более стойкие, чем другие: их не удавалось растопить ни жару огня, ни наступающей весне. И в салоне г-жи Сванн, куда недолго мне осталось ходить, я впитывал в себя всю правду этих ледяных, но уже цветущих недель при виде другой, еще более упоительной белизны, например бульденежей, у которых на верхушках длинных стеблей, голых, как вытянутые кусты на полотнах прерафаэлитов, красовались шары, монолитные, но состоящие из мелких частичек, белые, как ангелы Благовещения и окруженные запахом лимона. Потому что владелица замка Тансонвиль знала, что апрель, даже ледяной, не вполне лишен цветов, и что зима, весна, лето не разделены непроницаемыми перегородками, как кажется завсегдатаю бульваров, который до первых жарких дней воображает себе мир в виде голых домов, мокнущих под дождем. Впрочем, я далек от утверждения, будто г-жа Сванн довольствовалась тем, что присылал ей комбрейский садовник, и при посредстве своей «присяжной» цветочницы не заполняла пробелы в протоколе с помощью ранней средиземноморской флоры — да это меня и не заботило. Для того чтобы начать тосковать по деревне, мне хватало и того, что рядом с ледником муфты, которую держала г-жа Сванн, качались бульденежи (которые по замыслу хозяйки дома были, пожалуй, предназначены только для того, чтобы, по совету Берготта, воплощать вместе с обстановкой и ее туалетом «симфонию в белых тонах» [146] … по совету Берготта, воплощать… «симфонию в белых тонах»… — Вероятно, в совете Берготта отразилась картина Уистлера «Девушка в белом: симфония в белых тонах» (1863). Но одновременно имелось в виду, наверно, и стихотворение Теофиля Готье «Симфония ярко-белого» — перевод Н. Гумилёва или «Мажорно-белая симфония» — перевод Б. Дубина («Symphonie en blanc majeur») из сборника «Эмали и камеи» (1849).
); они напоминали, что волшебство Святой недели — это аллегория природного чуда, которое давалось бы нам каждый год, если бы мы были благоразумней, и, действуя заодно с кисленьким и хмельным ароматом других растений, чьих названий я не знал, хотя столько раз замирал перед ними на прогулках в Комбре, затопляли гостиную г-жи Сванн таким же девственным и простодушным цветением без единого листика, такими же природными, настоящими ароматами, как крутую тропу в Тансонвиле.
Интервал:
Закладка: