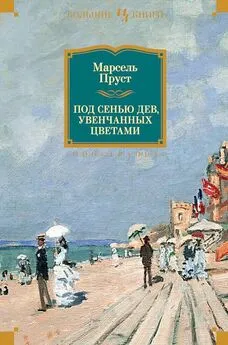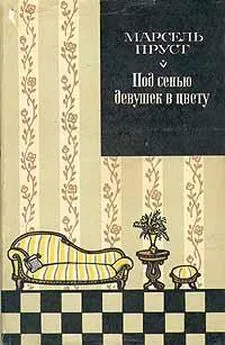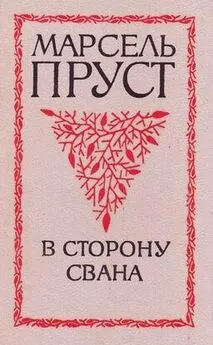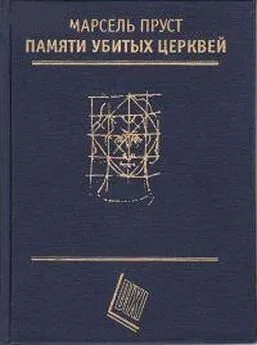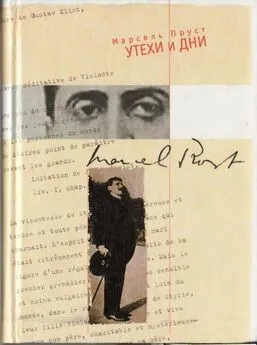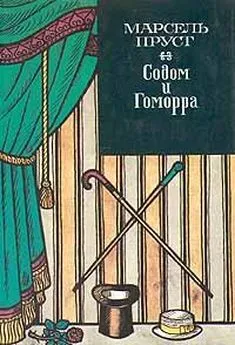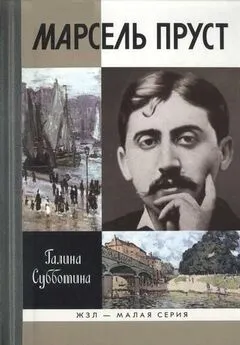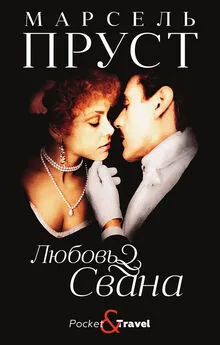Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами
- Название:Под сенью дев, увенчанных цветами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18721-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Под сенью дев, увенчанных цветами краткое содержание
Читателю предстоит оценить вторую книгу романа «Под сенью дев, увенчанных цветами» в новом, блистательном переводе Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Под сенью дев, увенчанных цветами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
II. Имена мест: место
Когда спустя два года мы с бабушкой уехали в Бальбек, Жильберта была мне уже почти совсем безразлична. Едва меня очаровывало новое лицо, едва я начинал надеяться, что другая девушка поможет мне изучить готические соборы, дворцы и сады Италии, я печально говорил себе, что, пожалуй, любовь, то есть наша любовь именно к этому человеку, — просто вымысел, воображение: да, она может приятными или болезненными узами привязать нас к какой-нибудь женщине, и мы даже вообразим, что любим и обречены были полюбить именно эту женщину, но сто́ит нам намеренно или невольно разорвать эти узы — и любовь оживет и устремится к другой, как будто это чувство совершенно стихийное, причем исходит только от нас самих. И всё же, когда мы уезжали в Бальбек и первое время после приезда, в равнодушии моем то и дело начинались перебои. Наша жизнь так мало подчинена хронологии и столько анахронизмов в нее вмешивается, что часто я заново переживал не вчерашний день и не позавчерашний, а те давние времена, когда любил Жильберту. Внезапно мне вновь, как тогда, становилось больно ее не видеть. На поверхность выныривало то мое «я», которое ее любило когда-то, а теперь уже почти уступило место другому, новому, и чаще это случалось не по важным поводам, а по самым пустяковым. Например, пытаясь заранее представить, как сложится моя жизнь в Нормандии, я подслушал в Бальбеке, как какой-то незнакомец, встреченный мною на молу, сказал: «Это семья начальника канцелярии почтового министерства…» Казалось бы, пустые слова: ведь я не мог знать тогда, как эта семья повлияет на мою жизнь — но слова прохожего причинили мне острую боль, ту самую боль, которую терпело прежнее «я», уже почти истаявшее за последнее время, от разлуки с Жильбертой. А дело в том, что до сих пор я никогда не вспоминал услышанного у Сваннов разговора между Жильбертой и ее отцом о семье «начальника канцелярии почтового министерства». Но ведь воспоминания о любви подвластны общим законам памяти, которые, в свой черед, подчиняются еще более общим законам привычки. А привычка ослабляет всё, поэтому острее всего нам напоминает о человеке именно то, что мы забыли, какая-нибудь мелочь, сохранившая всю свою силу воздействия благодаря тому, что мы о ней забыли. Вот почему лучшая часть нашей памяти — вне нас, в порыве дождя, в затхлом комнатном запахе или в дыхании вспыхивающего огня; она повсюду, где мы натыкаемся на ту частицу нас самих, которую за ненадобностью отверг наш разум; это лучшее, последнее из того, что приберегло про запас наше прошлое; это то, что умеет исторгнуть у нас слезы, когда мы, казалось бы, уже разучились плакать. Вне нас? Нет, внутри — но забвение, долгое или недолгое, скрыло эту часть памяти от нашего взгляда. И только благодаря забвению мы можем хоть изредка повстречать себя прежних, столкнуться с тем же, с чем сталкивался тот, другой человек, и снова испытать боль, потому что мы уже не мы, а он, и потому что он любил то, к чему мы теперь равнодушны. В ярком свете обычной памяти образы прошлого мало-помалу тускнеют, изглаживаются, от них не остается ничего, мы с ними больше не встретимся. Вернее, не встретились бы, если бы не случайные несколько слов (например, начальник канцелярии почтового министерства), заботливо припрятанные среди забытого: так в Национальной библиотеке хранят экземпляр книги, которую иначе было бы невозможно найти.
Но приступы боли и новые приливы любви к Жильберте длились не дольше, чем если бы они мне приснились — ведь в Бальбеке прежняя Привычка бессильна была их продлить. Действия привычки кажутся нам противоречивыми, но это потому, что она повинуется нескольким законам сразу. В Париже благодаря Привычке я делался к Жильберте все равнодушнее. Когда я уехал в Бальбек, дело Привычки довершили необычность новой обстановки и временная отмена всего, что входило в Привычку. Она ослабляет, но и придает устойчивость, она несет распад, но распад этот длится до бесконечности. Уже не первый год я изо дня в день не допускал никаких перемен в области своих чувств и переживаний. В Бальбеке же у меня была другая кровать, и утром рядом с ней ставили завтрак, не такой, как в Париже; всё это отвлекало от мыслей, питавших мою любовь к Жильберте: иногда — хотя далеко не всегда — от оседлого образа жизни все дни становятся похожи один на другой, и тогда, чтобы выиграть время, нужна перемена мест. Поездка в Бальбек была для меня словно первый выход на улицу после болезни, когда выздоравливающий вдруг замечает, что поправился.
В наши дни такие поездки совершают, скорее всего, в автомобиле: считается, что так приятнее. В каком-то смысле это даже правильней: наблюдаешь вблизи, вплотную, как постепенно, то быстро, то медленно, меняется поверхность земли. Но особая радость от путешествия состоит всё же не в том, что можно в любой момент выйти из машины и отдохнуть, если устал, не в том, чтобы стереть разницу между отъездом и приездом, а в том, чтобы эта разница стала как можно очевидней, чтобы прочувствовать ее во всей ее первозданной полноте; эту радость мы лелеяли мысленно, пока воображение уносило нас из места, где мы живем, в то самое место, о котором мечтали, уносило в один прыжок, казавшийся волшебным — не потому даже, что он преодолевал расстояние, но потому, что в нем сливались воедино две разные индивидуальности двух разных краев, что он переносил нас от одного имени к другому; всё это упрощает таинственная операция, совершающаяся в особых местах, вокзалах, которые не принадлежат, так сказать, городу, но содержат в себе его суть и характер, точно так же как надпись на них большими буквами возвещает его имя.
Но наше время маниакально стремится все вещи на свете предъявлять только в их реальном окружении — от этого из них исчезает главное, их духовный смысл, поднимавший их ввысь над реальностью. Картину «выставляют» среди мебели, безделушек, обоев той же эпохи, пошлого «ансамбля», который стремится создать в своем особняке хозяйка дома, вчера еще совершенно невежественная, но теперь она проводит целые дни в архивах и библиотеках; и посреди всего этого шедевр, открытый для обозрения во время обеда, не приносит гостям той опьяняющей радости, которую мог бы подарить в музейном зале, где нагота стен и отсутствие всего лишнего намного лучше символизируют то внутреннее пространство, куда художник удаляется, чтобы творить.
К сожалению, вокзалы, эти волшебные места, откуда отправляешься в далекие края, полны трагизма, потому что если уж случится такое чудо и местом нашего обитания окажутся страны, существовавшие до сих пор только в наших мыслях, то именно по этой самой причине нечего и надеяться, что, выйдя из зала ожидания, тут же попадешь в свою привычную комнату, которую только что покинул. Нужно оставить всякую надежду ночевать у себя дома, если уж решишься проникнуть в зловонную пещеру, через которую лежит путь к тайне, в один из огромных остекленных цехов, таких как Сен-Лазар, с которого уходил мой поезд на Бальбек; вокзал вздымал над развороченным городом просторные пронзительные небеса, набухшие нагромождением грозных примет, похожие на такие современные, почти парижские небеса на полотнах Мантеньи и Веронезе — под такими небесами может твориться лишь нечто ужасное и торжественное, например отъезд в поезде или воздвижение Креста [148] … на полотнах Мантеньи и Веронезе… или воздвижение Креста … — Андреа Мантенья (1430/31–1506) — итальянский художник и гравер; Пруст видел его произведения не только в Париже, но и в Падуе, где в часовне церкви Эремитани находятся фрески «Сцены из жизни св. Иакова и св. Христофора», которыми Пруст восхищался. Паоло Веронезе (1528–1588) — итальянский художник венецианской школы; Пруст полюбил его во время посещения Венеции. Французский комментатор отмечает, что имеются в виду, вероятно, две картины из Лувра: «Распятие» Мантеньи и «Голгофа» Веронезе.
.
Интервал:
Закладка: