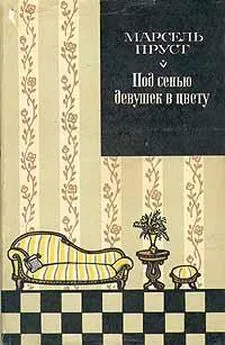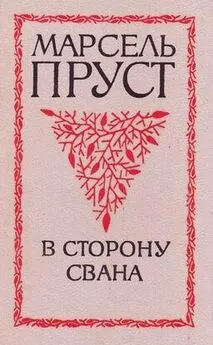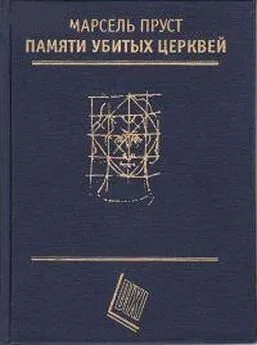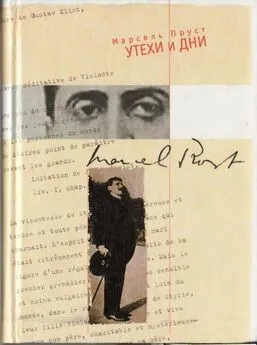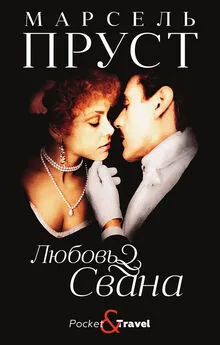Марсель Пруст - В сторону Сванна
- Название:В сторону Сванна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18720-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - В сторону Сванна краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
В сторону Сванна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даже те, кто ее не знал, замечали в ней что-то необычное, чрезмерное, — или, может быть, чувствовали, в силу телепатического излучения (повинуясь которому в минуты, когда игра Берма была особенно прекрасна, невежественная толпа разражалась аплодисментами), что это какая-то знаменитость. Они задавались вопросом: «Кто это?» — спрашивали у прохожих или даже старались запомнить, как она одета, чтобы потом, на основании этой точки отсчета, разузнать о ней у более осведомленных друзей. Другие гуляющие, замедляя шаг, говорили:
— Знаете, кто это? Госпожа Сванн! Как, не знаете? Одетту де Креси не знаете?
— Так это Одетта де Креси? То-то я смотрю — эти печальные глаза… Но послушайте, ей же, наверное, уже немало лет! Помню, я спал с ней в день отставки Мак-Магона [306].
— Только вы лучше ей об этом не напоминайте. Теперь она мадам Сванн, жена члена Жокей-клуба, друга принца Уэльского. К слову сказать, она и сейчас хоть куда.
— Да, но видели бы вы, как она тогда была хороша! Она жила в маленьком особнячке, очень странном, там было полно китайщины. Помню, как нам досаждали вопли газетчиков — она в конце концов заставила меня вылезти из постели.
Не слушая разговоров, я различал вокруг нее невнятный ропот известности. Сердце мое билось от нетерпения, когда я думал, что еще миг — и все эти люди (среди которых, как назло, не оказалось того банкира-мулата, который явно обдает меня презрением) увидят, как никому не известный молодой человек, на которого они не обращают ни малейшего внимания, поздоровается с этой женщиной, которая повсюду славится красотой, безнравственностью и элегантностью (на самом-то деле я с ней был не знаком, но считал, что вправе ее приветствовать, поскольку мои родители знакомы с ее мужем, а я дружу с ее дочерью). Но вот я уже, поравнявшись с г-жой Сванн, отвешивал ей такой глубокий, такой почтительный, такой продолжительный поклон, что она не в силах была удержаться от улыбки. Люди смеялись. А сама она никогда не видела меня с Жильбертой, не знала моего имени; я был для нее что-то вроде паркового сторожа, или лодочника, или утки на озере, которой она бросала хлеб, — один из второстепенных, привычных, анонимных персонажей, начисто лишенных индивидуальных черт, исполняющий свою роль в ее прогулках по Булонскому лесу. В иные дни, не видя ее в Аллее акаций, я встречал ее в Аллее королевы Маргариты, где бывают женщины, которые хотят побыть в одиночестве или притворяются, будто ищут одиночества; она недолго оставалась одна, к ней скоро подходил кто-нибудь из друзей, часто это был незнакомый мне человек в сером цилиндре; они подолгу беседовали, а их экипажи ехали за ними следом.
В Булонском лесу так все перемешано, что кажется он каким-то ненастоящим: воистину это Сад — не то зоологический, не то мифологический; я вновь убедился в этом недавно, когда шел через него по дороге в Трианон утром одного из первых дней ноября — дней, когда в парижских домах чувствуешь, что поблизости играют печальный осенний спектакль, который так быстро кончается, что мы не успеваем на нем побывать; этот спектакль навевает ностальгию, и в разгар листопада даже бывает трудно уснуть. В моей запертой спальне вот уже месяц опавшие листья, привлеченные моим желанием их увидеть, проскальзывали между моей мыслью и любым предметом, которого я касался, и крутились вихрем, как желтые пятна, танцующие иногда у нас перед глазами, на что бы мы ни смотрели. А в то утро, не слыша больше дождя, лившего все последние дни, различив улыбку ясной погоды в уголках задернутых штор, словно улыбку потаенного счастья в уголках плотно сжатых губ, я нашел в себе силы посмотреть на эти желтые листья, пронизанные светом в миг их наивысшей красоты; и, чувствуя, что меня неудержимо тянет пойти смотреть на деревья — вот так когда-то тянуло меня на берег моря, когда ветер слишком сильно завывал в трубе, — я вышел из дому и через Булонский лес отправился в Трианон. В это время года и дня Булонский лес, наверное, разнообразнее всего, и не только потому, что делится на разные, не похожие одна на другую части, а и потому, что делится не так, как всегда. Даже на широких открытых пространствах, на фоне разбросанных тут и там далеких темных куп деревьев, совсем без листьев или хранящих еще летнюю листву, кажется, художник, как на едва начатой картине, успел пока нарисовать только двойной ряд оранжевых каштанов, а остальных частей холста еще не коснулись краски; залитую же светом аллею он приберег для прогулки каких-то персонажей, которых добавит позже.
Дальше, там, где все деревья были покрыты зелеными листьями, одно-единственное — маленькое, приземистое, упрямое, с обрезанной верхушкой — клонило по ветру некрасивую красную шевелюру. А еще дальше вам представало первое майское пробуждение листьев, и плети ласкового дикого винограда, удивительного, словно зимняя груша, с самого утра были усыпаны цветами. И весь Булонский лес был какой-то временный, ненастоящий, похожий на питомник или сад, где — не то из интереса к ботанике, не то готовясь к празднику — посреди обычных деревьев, еще не пересаженных в другое место, высадили два или три дерева драгоценных пород, с невероятной листвой, вокруг которых почему-то сохранялось пустое пространство, веяло свежим воздухом, разливался ясный свет. Да, именно в это время года в Булонском лесу больше всего бросается в глаза разнообразие древесных пород, и отдельные части парка, непохожие между собой, переходят одна в другую самым неожиданным образом. И время дня было то самое. В тех местах, где на деревьях еще оставались листья, казалось, матерьял, из которого они состоят, менялся по мере того, как к ним прикасался солнечный свет, падающий почти горизонтально по утрам, а несколькими часами позже, когда начинает смеркаться и солнце, вспыхнув наподобие лампы, издали бросает на листву неестественные горячие отблески, в его лучах вспыхивают верхние листья на дереве, и само дерево стоит несгораемым тусклым светильником со сгоревшей вершиной. Свет густел, обретая плотность кирпича, и, похожий на желтую персидскую мозаику с синим узором, здесь грубо приклеивал листья каштанов к небу, а там, напротив, отдирал их от неба, за которое они цеплялись своими золотыми пальцами. К стволу дерева, обвитого диким виноградом, на полпути к верхушке, солнечный свет привил огромный букет каких-то, кажется, красных цветов, что-то вроде гвоздик — они уже и распустились, но солнце так било в глаза, что разглядеть их было невозможно. Зато яснее различались отдельные части Булонского леса, летом сливавшиеся воедино из-за густой, однообразной зелени. Вход в каждую из них предварялся участком, где деревья росли не так плотно, или особенно пышной зеленью, развевавшейся перед ним как знамя. Словно на цветной карте, выделялись Арменонвиль, Каталонский луг, Мадрид, Скаковой круг, берега Озера [307]. Порой возникала какая-нибудь бесполезная постройка, искусственный грот, мельница посреди расступившихся деревьев или на лужайке, как на бархатистом помосте. Чувствовалось, что Булонский лес — это не просто лес, что было у него какое-то другое предназначение, не имевшее отношения к жизни его деревьев; и восторг во мне возбуждало не только восхищение осенью, но и желание. Это великий источник радости, которую душа сперва просто ощущает, не распознавая ее причины, не понимая, что эта радость не пришла к нам извне. И я смотрел на деревья с беспокойной нежностью, которая, минуя их, незаметно для меня распространялась на несравненные произведения искусства — на красавиц, каждый день гулявших среди этих деревьев. Я шел к Аллее акаций. Я миновал строевой лес, где утренний свет, по-своему распределяя стволы по отдельным рядам, подстригал деревья, подбирал их одно к одному и составлял из них букеты. Он ловко притягивал к себе два дерева, затем, орудуя мощными ножницами, составленными из луча и тени, отстригал от каждого полствола и полкроны и, сплетая вместе две оставшихся половинки, мастерил из них то темную колонну, со всех сторон окруженную солнечным сиянием, то призрачный столб света, чей искусственный трепещущий контур был опутан сетью черной тьмы. Когда солнечный луч золотил самые верхние ветки, казалось, они, окунувшись в искрящуюся влагу, выныривали из жидкого изумрудного воздуха, в который, словно в морскую пучину, весь целиком погрузился лес. Потому что деревья продолжали жить своей собственной жизнью, и когда на них больше не было листьев, он блистал ярче под чехлом зеленого бархата, обволакивавшим стволы, или в белой эмали шариков омелы, рассеянных по верхушкам тополей, круглых, как луна и солнце на «Сотворении мира» Микеланджело [308]. Но каждое дерево, на долгие годы обреченное жить общей жизнью с женщиной, которая словно была привита к его стволу, напоминало мне о дриаде, прекрасной светской даме, проходящей мимо, проворной и живописной, которую деревья накрывают ветвями и заставляют почувствовать вместе с ними очарование времени года; они твердили мне о счастливой поре моей доверчивой юности, когда я жадно стремился туда, где среди бесчувственной сообщницы-листвы являлись на несколько мгновений шедевры женской элегантности. Сосны и акации Булонского леса волновали меня сильнее, чем каштаны и сирень Трианона, куда я теперь направлялся, и, глядя на них, я мечтал о той красоте, что жила у меня в душе, а не в воспоминаниях об исторической эпохе, не в произведениях искусства, не в маленьком храме любви, у подножья которого копились груды лапчатых золотых листьев. Я вышел на берег озера, добрался до Голубиного тира. В прежние времена совершенство для меня было воплощено в том, что виктория такая высокая, а запряженные в нее кони так поджары, яростны и легки, как осы, и глаза у них налиты кровью — точь-в-точь свирепые кони Диомеда [309]; и теперь мне опять страстно захотелось увидеть то, что я любил когда-то, захотелось так же, как тогда, много лет назад, когда я бродил по этим дорогам, одержимый желанием; я желал, чтобы эти кони выросли передо мной и чтобы огромный кучер г-жи Сванн под присмотром маленького грума, ростом с кулачок, отроческим своим видом похожего на святого Георгия, пытался усмирить их железные крылья, пугливые и трепетные. Увы! теперь остались только автомобили с усатыми механиками за рулем в сопровождении рослых лакеев. Мне захотелось увидеть маленькие женские шляпки, плоские, как простые веночки, — увидеть воочию, чтобы знать, так ли они прелестны, какими видят их глаза моей памяти. Теперь все шляпки были огромны, и на них красовались фрукты, и цветы, и всевозможные птицы. Вместо прекрасных платьев, в которых г-жа Сванн была похожа на королеву, — туники, не то греческие, не то саксонские, и танагрские складки, и стиль Директории, и атласные тряпки в цветочек, словно обои. На головах у господ, которые могли бы сопровождать г-жу Сванн в Аллее королевы Маргариты, я не видел прежних серых шляп, и вообще шляп не было. Все ходили с непокрытой головой. И у меня больше не было веры во все эти новшества, а без веры все зрелище рассыпалось, расползалось, казалось ненастоящим; разрозненные картины проходили мимо, начисто лишенные красоты, за которую мои глаза могли бы зацепиться, как в прежние времена, чтобы попытаться что-то из всего этого выстроить. Просто какие-то женщины — их элегантность не внушала мне доверия, их наряды казались бессмысленными. Но когда исчезает вера, остается фетишистская привязанность к старым вещам, которые эта вера оживляла прежде, — остается и даже укрепляется, помогая нам скрывать утраченную способность вдохнуть жизнь во все новое — как будто это в вещах, а не в нас заключалось чудо, а теперь мы утратили веру из-за смерти Богов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: