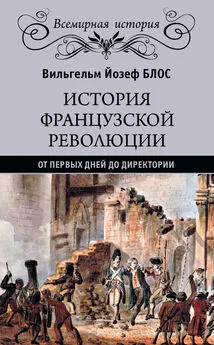Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия искусства
- Название:Философия искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-10523-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия искусства краткое содержание
Философия искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Главная задача заключается в том, чтобы выяснить, как соответственно общему характеру субъективности и идеальности христианства символическое должно было обязательно обнаруживаться в действии (в действованиях). Так как основное созерцание христианства исторично, то необходимо, чтобы христианство заключало в себе мифологическую историю мира. Само вочеловечение Христа мыслится только в связи с общим представлением истории человечества. Истинной космогонии в христианстве нет. В этом отношении в Ветхом Завете мы находим лишь очень несовершенные попытки. Действование, история есть только там, где есть множественность. Следовательно, если в божественном мире есть действование, это предполагает также и в нем множественность. Но в соответствии с духом христианства последняя не может мыслиться политеистически, следовательно, возможна лишь через участие посредствующих существ, которые пребывают в непосредственном созерцании Божества и суть первые создания, первые порождения Божественной субстанции. Такие существа в христианстве суть ангелы.
Можно представить себе попытку рассматривать ангелов как замену политеизма в христианстве, тем более что они по своему своеобразному восточному происхождению так же определенно суть олицетворения идей, как боги греческой мифологии. Известно также, как широко использовали этих посредствующих существ новые христианские поэты – Мильтон, Клопшток и другие, притом почти столь же назойливо, как Виланд – Граций. Однако же различие заключается в том, что греческие боги действительно суть реально созерцаемые идеи, в то время как у ангелов даже и самая телесность их сомнительна, и потому сами они все еще лишены чувственности. Если бы ангелов захотели понять как олицетворение воздействий Бога на чувственный мир, то они составляли бы, как таковые, в своей неопределенности опять-таки лишь простой схематизм и, таким образом, были бы для поэзии непригодными. Ангелы и их конституция (Verfassung) сами как бы получили свою телесную форму лишь через церковь, иерархия которой должна была служить непосредственным отображением небесного царства. Поэтому символична в христианстве только церковь. Ангелы не суть природные существа, поэтому они совершенно лишены отграничения; даже верховные из них почти сливаются друг с другом, а вся их масса – наподобие нимбов у некоторых великих итальянских живописцев, которые, если их пристально рассмотреть вблизи, сплошь состоят из маленьких ангельских головок, – почти кашеобразна. Может показаться, что эту расплывчатость в христианстве хотели отразить через однообразнейшее проявление деятельности, которое можно было приписать ангелам, а именно вечное пение и столь же вечное музицирование.
Итак, история ангелов сама для себя лишена чего-либо мифологического; исключение составляют мятеж и изгнание Люцифера, который есть уже более определенная индивидуальность и более реалистический образ. Последнее придает действительно мифологический аспект истории мироздания, правда в несколько устрашающем и восточном стиле.
Царство ангелов, с одной стороны, и дьявола – с другой, являют полную обособленность доброго и злого начал, которые во всех конкретных вещах перемешаны между собой. Отпадение Люцифера, одновременно погубившее весь мир и принесшее в него смерть, дает, таким образом, мифологическое объяснение конкретного мира как смешения бесконечного и конечного начал в чувственных вещах, ибо для людей Востока конечное вообще происходит от лукавого и ни в каком отношении, даже в отношении идеи, от блага. Эта мифология простирается до конца мира, где как раз снова наступит разделение доброго и злого и где то и другое окажется восстановленным в своем чистом качестве, чем с неизбежностью определится гибель всего конкретного, и огонь как символ завершенного спора в конкретном поглотит мир. До этого времени злое начало весьма и весьма делит с Богом владычество над землей, хотя вочеловечение Христа основало противостоящее ему на земле царство. (Подробнее об этой восточной маске будет идти речь в связи с комедией Нового времени, так как Люцифер в позднейшее время играет вообще в универсуме роль комического персонажа, который постоянно строит все новые планы, как правило проваливающиеся, и который, однако, столь жаден на уловление душ, что готов оказывать самые низкие услуги, и все же в конце концов по причине неизменной бдительности благодати и церкви частенько остается с носом как раз тогда, когда дело кажется ему окончательно выигранным. Мы, немцы, обязаны ему чрезвычайной благодарностью за доктора Фауста, наш основной мифологический персонаж. Прочие персонажи мы делим с другими нациями, Фауст же нам принадлежит всецело, ибо он словно вырезан из самой сердцевины немецкого характера, из сердцевины его основной физиогномии.)
У народа, в поэзии которого господствует ограничение, конечное, мифология и религия суть дело рода. Индивидуум может конституировать себя в род и действительно составить с ним единство; но где, напротив, господствует бесконечное, общее, там индивидуум не может в то же время стать родом, но есть отрицание рода. Таким образом, здесь религия может распространяться только через влияние отдельных носителей исключительной мудрости, лишь преисполненных общим и бесконечным, т. е. пророков, провидцев, боговдохновенных людей. Религия принимает здесь по необходимости характер религии откровения и поэтому уже в своем основании исторична. Греческая религия, как религия поэтическая, живущая родовым началом, не нуждалась в исторической подоснове, как не нуждается в последней всегда открытая природа. Явления и образы богов были здесь вечными; там, в христианстве, божественное было скоропреходящим явлением и должно было быть в нем удержано. В Греции религия не имела своей собственной истории, независимой от историй государства; в христианстве имеется история религии и история церкви.
От понятия откровения неотделимо понятие чуда. Подобно тому как греческая мысль требовала повсюду чистого, прекрасного ограничения, чтобы возвести для себя весь мир в мир фантазии, так восточная мысль повсюду стремилась к неограниченному, к сверхъестественному, и притом в определенной целокупности, чтобы ни с какой стороны эту мысль не разбудили от ее сверхчувственных сновидений. Понятие чуда в греческой мифологии невозможно, так как боги там не внеприродны и не сверхприродны; там нет двух миров – чувственного и сверхчувственного, но есть единый мир. Христианство, которое возможно только в абсолютной раздвоенности, уже при своем возникновении покоится на чуде. Чудо есть абсолютность, рассматриваемая с эмпирической точки зрения, попадающая в конечное без того, чтобы в связи с этим иметь отношение ко времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
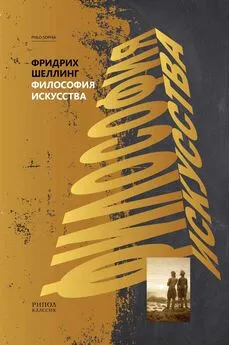
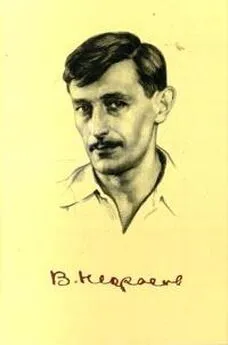
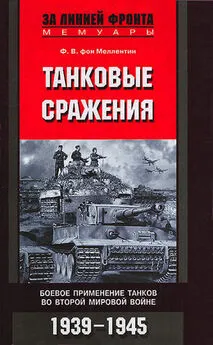


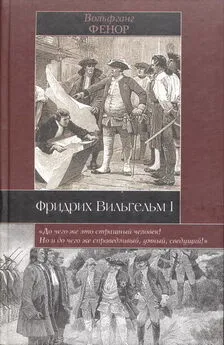

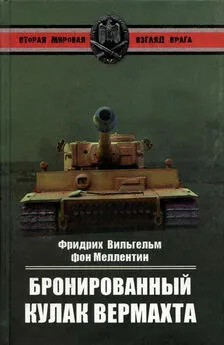

![Вильгельм Йозеф Блос - История французской революции. От первых дней до Директории [litres]](/books/1142539/vilgelm-jozef-blos-istoriya-francuzskoj-revolyucii.webp)