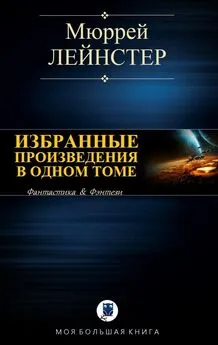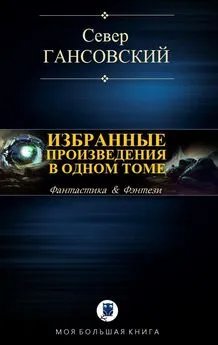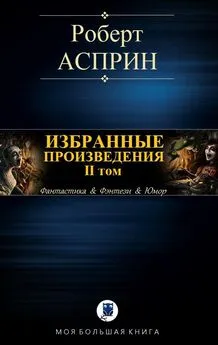Асорин - Асорин. Избранные произведения
- Название:Асорин. Избранные произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00347-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Асорин - Асорин. Избранные произведения краткое содержание
Асорин. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Два года захудалый философ «разводил мелкую философию на глубоких местах», подытоженную в «Кратком курсе мелкой философии». Однако цикл, задуманный как забавная говорильня, оказался серьезнее, чем предполагал поначалу сам автор. «Фантазии и бредни» прозвучали как последний отзвук и, одновременно, саркастическая реплика — спустя шесть лет — монологам 98 года. Сколько умных, честных, безжалостных и дельных речей, способных, кажется, переменить все, чему нельзя не перемениться, было сказано за эти годы и кануло в пустоту, развеяв последнюю иллюзию поколения — веру в действенную силу слова. Отсюда новые оттенки в обличительных интонациях: «А газеты? Вчерашние, сегодняшние, завтрашние, какую ни возьми — тошно. Но — увольте! Меня словоплетением не прельстишь, я, благодарение богу, какой-никакой, а философ, и потому призываю вас спокойнее относиться к агонии — поговорим о пустяках!»
Свою следующую книгу Мартинес Руис озаглавил: «Исповедь захудалого философа», но читатели не узнали в герое своего собеседника, хотя красный зонт был упомянут в первой же строчке. Собственно, только название связывает книгу с газетным циклом. «Исповедь» оказалась последней частью трилогии об Антонио Асорине. Парадоксальной трилогии — с двумя вариантами судьбы героя в рамках одного повествования, обратным хронологическому ходом времени и резким жанровым сдвигом — от эпической панорамы в первой части к лирической исповеди в третьей. В «Исповеди» все романные составляющие трилогии исчезают. Она держится одной лирической мелодией, но в то же время это искусно сложенная (хотя кажется, что — рассыпанная) мозаика зарисовок в импрессионистской технике, лирических эссе, стихотворений в прозе.
И если в «Воле» стиль писателя еще складывался — с немалым трудом он освобождался от патетики и ораторских интонаций, то в «Исповеди» Мартинес Руис уже нашел себя: короткая, синтаксически простая или, напротив, долгая, однозвучная, с перекличками и повторами фраза; редкие определения, прозрачное, чистое слово, внимательный к неприметным подробностям взгляд. И если в свое время Кларин угадал в Мартинесе Руисе надежду испанской литературы, то после «Исповеди» Дарио назвал его первым мастером: «Слово его, продуманное и скупое, почти всегда звучит под сурдинку, движения сдержанны и классически четки; из красок его сердцу милее всего акварель. Но какая необычайная внутренняя сила таится за всем этим! Властвовать над нею так спокойно и строго, как властвует он, дано немногим. Этот захудалый философ пишет просто, чисто и мощно — на века».
Исследовав два варианта судьбы героя и дважды удостоверившись в крахе, в «Исповеди» Мартинес Руис намерен отыскать его внутренние причины. Зная итог, он начинает с истока, с детства, и останавливает, вглядываясь в каждое, мгновенья, предопределившие судьбу. Но исследовательский замысел растворяется в лирической стихии книги. Дистанция между автором и героем, очевидная в других частях трилогии, исчезает. Антонио Асорин — не просто второе «я» автора, это его «внутренний человек», если воспользоваться выражением Ортеги-и-Гассета, «двойник-дополнение», как придуманные философы Антонио Мачадо.
В «Исповеди» Мартинес Руис отдал своему герою все, что вылепило его душу, — не только любимые книги, но и ночные страхи, заветные тетрадки, изморозь на монастырском окне, распахнутом в промозглое утро, заповедь дяди Антонио и даже любимого деда вкупе с портретом и рукописью. Отдал — и словно заглянул в будущее, которое вдруг показалось своим, — в конец «Воли». Ее беспощадные страницы теперь звучали пророчеством: мятежник, фрондер, анархист Мартинес Руис кончит если не тем же, то так же, как Антонио Асорин. Жестокий итог. Но именно тогда, разглядев тени, отброшенные будущим, Мартинес Руис не отступился от родства и взял себе имя героя. («Доморощенный стоик», — так он иногда шутил на свой счет в кругу близких.)
Хосе Мартинес Руис — отныне Асорин — напишет еще множество прекрасных книг (критики до сих пор спорят, какая из них глубже, отшлифованнее, утонченней), но все же, если на одну чашу весов положить все его собрание сочинений в сто семь томов, а на другую — «Исповедь», чаша склонится под ее тяжестью. «Исповедь» всколыхнула идо сих пор не утихшую волну подражаний, однако только одна книга той же тональности может сравниться с нею по чистоте внутренней мелодии — «Платеро и я» Хименеса.
В начале 1905 года исполнилась давняя мечта Асорина: ему предложила сотрудничество газета «Эль Импарсиаль», независимая, основательная и смелая. Ее редактор Хосе Ортега, отец философа, предложил Асорину по случаю близкого юбилея «Дон Кихота» повторить путь рыцаря Печального образа и дать серию очерков. Газета обеспечила корреспондента мулом и повозкой, а редактор в последнюю минуту — «Чуть не забыл!» — снабдил путешественника револьвером («на всякий случай»).
Верный себе, перед поездкой Асорин проштудировал сотни книг — литературоведческих, исторических и географических. Однако, читая «Путь Дон Кихота», догадаться об этом нельзя. Эрудиция и архив заняли свое место — за кадром. И поначалу кажется, что Асорин пишет именно путевой очерк и занимает его не столько книга и рыцарь, сколько люди, которые встречаются ему — Асорину — сегодня. Их судьбы, привычки и обыденные заботы, их преданная, простодушная любовь к Сервантесу, Дон Кихоту и Санчо. Но таков асориновский путь к Дон Кихоту — он лежит не от достопримечательности к памятнику, а от души здешней горемыки-крестьянки или девушки, которая могла быть невестой Сервантеса, в глубь народной души, связанной тайными нерушимыми узами с рыцарем Печального образа. И еще — в глубь времени. Здесь, в глуши, время так тягуче и длинно, что ощутим лишь его ход, за которым нельзя поспеть, а само время ускользает, все оставляя без перемен. И кажется, не века пролегли между этими странствиями — кажется, только что от постоялого двора, к которому приближается повозка Асорина, отъехал, устремляясь к новым подвигам, Дон Кихот. И та же печаль растворена в воздухе, и та же земля под ногами, и в руках та же — вечная — книга.
Почувствовать — вот первое душевное движение Асорина, когда речь идет о родной литературе. Вслушаться, чем отзовется книга, и ощутить родство. В конечном итоге — вернуть книгу (старинную или недавнюю, великую или просто достойную) живому общению. Свой антиакадемический принцип Асорин сформулирует позже, но в полной мере он ощутим уже в «Пути Дон Кихота». Когда историко-литературная — окололитературная — работа становится самоцелью и набор архивных сведений выдается за итог, рождается только мертвое слово, отравляющее первоисточник. Такая история литературы при всем ее научном антураже лжива, как и официальная историография. Не только история Испании должна быть переосмыслена — нужна интраистория национальной литературы. Первые главы этого совместного труда поколения 98 года посвящены испанской Библии — «Дон Кихоту» — и написаны в один год: «Путь Дон Кихота» Асорина и «Жизнь Дон Кихота и Санчо» Мигеля де Унамуно. Но если Асорину на его пути к Дон Кихоту нужны земля и люди Кастилии, Унамуно достаточно одной — его собственной — души: «Какое мне дело до того, что хотел сказать и чего не хотел сказать Сервантес, и даже до того, что он сказал? Живо лишь то, что я слышу в его словах сегодня…» И если Дон Кихот Унамуно — «мой Дон Кихот», то у Асорина это скорее «Дон Кихот нашего поколения», Дон Кихот глазами испанца рубежа веков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
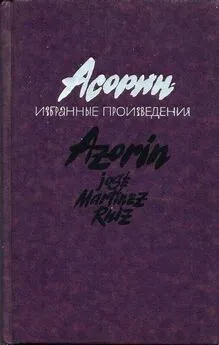

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)
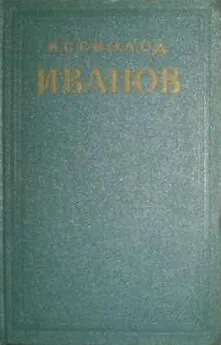

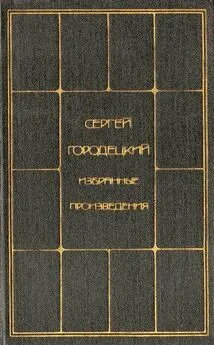
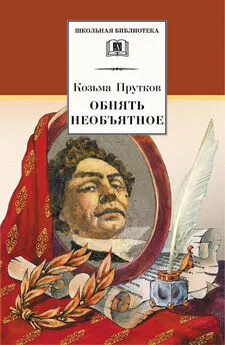
![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060560/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)