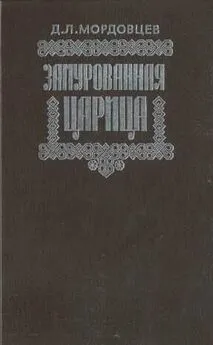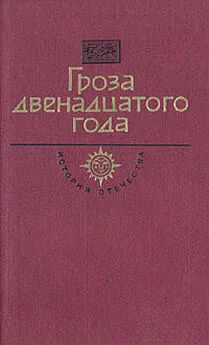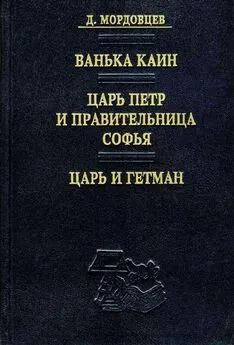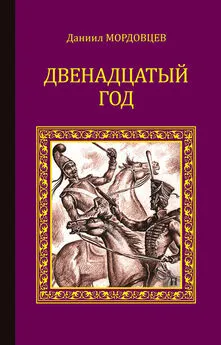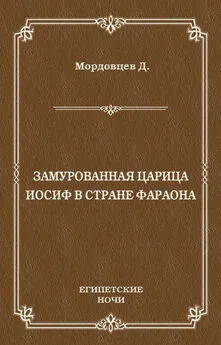Даниил Мордовцев - Вельможная панна. Т. 1
- Название:Вельможная панна. Т. 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-486-03991-1, 978-5-486-03993-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Мордовцев - Вельможная панна. Т. 1 краткое содержание
Главная героиня романа «Вельможная панна» – Елена Масальская, представительница двух знатнейших польских фамилий: Масальских и Радзивиллов. В восьмилетнем возрасте она оказывается во Франции со своим дядей, бежавшим туда после подавления польского восстания. Из маленькой девочки она превращается в очень образованную, богатую и одну из самых красивых невест Парижа, руки которой добиваются лучшие женихи Франции. Елена становится женой принца де Линя и дарит ему дочь. Этим заканчивается парижский этап ее жизни.
Вельможная панна. Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Всемилостивейше восхотя, – объявляло русское правительство, – оказать новым подданным нашим опыт монаршего нашего к ним попечения, освобождаем их на полгода от положенных государственных поголовных и винных податей».
Русское правительство приобретало сторонников в Польше и другими средствами, парализуя силы республиканского правительства. В то время когда Станислав-Август призывал своих подданных в сенат к чрезвычайному собранию, генерал-губернатор вновь приобретенных Россиею стран делал свое дело.
«Так как российские подданные, – докладывал граф Чернышев государыне, – удостоены иметь опыт матернего вашего милосердия, в милостивом соизволении, чтоб к сочинению проекта нового уложения призваны были из всех уездов империи депутаты, не только для того, чтоб от них выслушать нужды и недостатки каждого состояния, но допущены они и в комиссию сочинения великого сего и отечеству полезного дела, то позвольте мне, всемилостивейшая государыня, как учрежденному от вас попечителю новоприсоединенных держав вашего величества двух белорусских губерний, просить о удостоении такой же матерней милости новых подданных, дабы они щедротами были во всем сравнены с древними верноподданными вашими…»
Какой язык! Боже, какой язык!
Через месяц оказаны были новые милости новым подданным.
«Чтоб усугубить новым подданным нашим знаки монаршего нашего об них и о благоденствии их попечения, – объявлялось именным указом, – всемилостивейше повелеваем все староства, купленные владельцами, учинившими присягу на подданство России, отдаются им же на аренду по смерть, без платежа аренды до тех пор, пока не выплатят весь долг за покупку, а все староства, доставшиеся по наследству или в даре от короны польской, отдать владельцам по смерть же с платежом арендных денег».
Через месяц – еще милости!
«Милосердуя о наших подданных белорусской губернии, – объявлялось в новом именном указе, – повелели мы уже на первую половину сего 1773 года поголовных и винных денег с них не взыскивать, а ныне повелеваем, для лучшего в домашнем их состоянии, снова взимать, токмо в уменьшенном размере».
Прошел еще месяц, и снова публиковалось, что императрица «всемилостивейше оказать соизволила новый знак матернего своего к тамошним жителям милосердия: к вящему удовольствию тамошних жителей» в судопроизводстве дозволить польский язык и судей выбирать из тамошнего шляхетства.
Всеми этими мерами немало подрывалась и без того сомнительная популярность польского правительства, а значение Станислава-Августа делалось еще ничтожнее, если только это возможно. Бесполезна была всякая попытка оживить мертвый труп польского королевства, когда королевство это давно не существовало, хотя видимый признак его как будто и жил, и волновался, и предъявлял права свои на самостоятельное значение. Бесполезны уже были и сеймы, и конфедерации, и senatus consilium, этот мускус у постели умирающего организма: в Варшаве продолжали находиться войска протекторов, и не только не оставляли столицы, но еще увеличивали свой состав, и все это для того, чтобы в Варшаве было тихо и спокойно, как в спальне умирающего. Надо было ожидать, что войска эти будут охранять заседание senatus consilium, и поляки видели это с горестью и бессильны были протестовать против такой обязательной, насильственной опеки. Естественно, что собрание сената было последним паллиативом, к которым в ослеплении прибегают всегда государства, когда замечают, что стоят на краю пропасти. Это были отчаянные и почти несамопроизвольные движения умирающего, когда тело, еще не перешедшее в холодный окоченелый труп, бессознательными порывами силится сократить последнюю предсмертную агонию. Сенат должен был начать и кончить свои заседания по программе протекторов, не смея рассуждать о том, о чем не приказано, хотя одинаково уже было бы бесполезно, если бы и позволили рассуждать обо всем.
Притом сенат не мог быть в полном составе: иные из сенаторов сами сознавали, что не стоит труда хлопотать о чем бы то ни было, потому что уже поздно, и не явились в собрание; другим пригрозили ссылкой, и они тоже не явились; третьи сами махнули рукой на все и стали или врагами родины, или равнодушными к ней.
Оказалось, что сенат не имел сенаторов, из коих в сборе была только четвертая часть, решения которой не могли иметь важного значения для государства, полагавшего в основу управления конституционные принципы.
Протекторы настаивали на том, от чего еще полгода назад Адам Красинский предостерегал поляков, за что и был арестован, именно за созвание сейма, что Красинский считал не только бесполезным для Польши в ее положении, но и опасным, на что протекторы смотрели, как на единственное благовидное средство дать возможно законную наружность своим поступкам в Польше, показать Европе, что не только протекторство их, но и самые захваты власти, земель, людей делаются по воле нации – ее представителей. Протекторы не только настаивали, но просто повелели, чтобы сейм был созван. В декларации, опубликованной Штакельбергом, фразы такие, можно сказать, уемистые, что под ними можно было скрыть какой угодно смысл: одни видели в ней дипломатическую, благородно и деликатно в отношении к чувству поляков написанную ноту; другие видели в ее фразах совершенно иной тон; Европе она представлялась весьма обыкновенным выражением сочувствия России к бедственному положению соседки; соседке же в дипломатических фразах Штакельберга слышались несдержанные угрозы сильного соседа.
Конечно, и Европа читала многое между строк во всех публиковавшихся тогда нотах относительно событий в Польше; и Европа догадывалась, что сильные соседи слишком усердно хлопочут вокруг соседки, и хлопочут не бескорыстно, однако ж, нельзя было не согласиться, что законность притязаний протекторов на некоторые провинции соседки, и даже на ее домашнюю жизнь, была по возможности соблюдена. Россия говорила Европе и Польше, что только анархия, столько лет раздирающая Речь Посполитую, вынуждает ее предъявить «древние права» свои на некоторые польские земли, издавна принадлежавшие России и теперь имеющие возвратиться в ее собственность, так как сама Польша не умеет управляться со своим добром. Притом Россия указывала на то обстоятельство, что она имеет право на вознаграждение за все убытки, понесенные ею по вине Польши, которая по своим беспрерывным смутам требовала постоянного присутствия русского войска в Варшаве и в других неспокойных частях Речи Посполитой.
С государственной точки зрения того времени, да, пожалуй, и всех времен, Россия была права. Но поляки, думали в Петербурге, по всей нелогичности и по отсутствию политического такта не хотели понять, что в политическом мире справедливость всегда на стороне сильного. Нота Штакельберга казалась им насмешкою, злым издевательством над участью государства, столько пострадавшего в последнее время. Им все казалось обидною насмешкой в этой ноте: и то, будто Россия беспокоится о восстановлении спокойствия в Польше, и что будто бы с горестью взирает она на то, как польская нация вместо того, чтобы заботиться о созвании сейма, без которого невозможно умиротворение государства, замышляет новые измены, готовит новые интриги и т. д. Обидно было им слышать, как их самих же обвиняли в гнусном намерении продлить волнения в своем собственном государстве, как упрекали их в том, будто они тайно возбуждают умы граждан, готовят заговоры, чтобы только поставить преграды давно желанному успокоению своей собственной страны. Полякам потому это было обидно, что они никак не могли считать себя виновными в том, будто они сами желают гибели своему государству. Штакельберг знал, что поляки постоянно будут оттягивать время созвания сейма, и потому, согласно воле своего двора, сам назначил это время, присовокупив в декларации, что было бы бесполезно сопротивляться этому твердому решению его правительства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
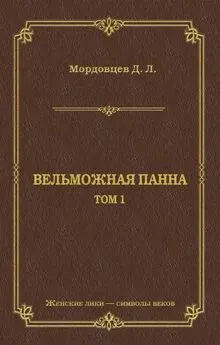

![Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](/books/68753/daniil-mordovcev-ten-iroda-idealisty-i-realisty.webp)