Ги Мопассан - Избранные произведения в одном томе
- Название:Избранные произведения в одном томе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Интернет-издание (компиляция)
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ги Мопассан - Избранные произведения в одном томе краткое содержание
В данное издание вошли избранные произведения автора.
Содержание:
РОМАНЫ:
Жизнь
Милый друг
Монт-Ориоль
Сильна как смерть
Наше сердце
Пьер и Жан
ПОВЕСТИ:
Пышка
Доктор Ираклий Глосс
РАССКАЗЫ:
Корсиканская история
Легенда о горе святого Михаила
Петиция соблазнителя против воли
Поцелуй
Ребенок
Старик
Восток
Наследство
Марсианин
СБОРНИКИ МАЛОЙ ПРОЗЫ:
Заведение Телье
Мадмуазель Фифи
Рассказы Вальдшнепа
Иветта
Лунный свет
Мисс Гарриет
Сёстры Рондоли
Сказки дня и ночи
Господин Паран
Маленькая Рок
Туан
Орля
Избранник г-жи Гюссон
С левой руки
Бесполезная красота
Дядюшка Милон
Разносчик
Мисти
НОВЕЛЛЫ, ОЧЕРКИ, ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ:
Воскресные прогулки парижского буржуа
Под солнцем
На воде
Бродячая жизнь
ПЬЕСЫ:
В старые годы
Репетиция
Мюзотта
Семейный мир
Измена графини де Рюн
Лепесток розы, или Турецкий дом
СТИХОТВОРЕНИЯ:
Сборник 1880 г.
Избранные произведения в одном томе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы ее видели, войну. Мы видели людей, снова превратившихся в скотов, обезумевших, убивавших из удовольствия, из страха, из бравады, из хвастовства. Когда право перестало существовать, когда закон умер, когда исчезло всякое понятие о справедливости, мы видели, как на дорогах расстреливали невинных людей, ставших подозрительными оттого, что им было страшно. Мы видели, как стреляли в собак, привязанных на цепи у хозяйских дверей, чтобы испробовать новый револьвер, мы видели, как расстреливали лежащих в поле коров без всякой причины, просто, чтобы пострелять, так, смеха ради.
Вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.
Вторгаться в чужую страну, убивать защищающего свой дом человека, потому что он одет в блузу и не носит кепи на голове, сжигать жилища несчастных людей, у которых больше нет хлеба, ломать мебель, а то и красть ее, пить вино, найденное в погребах, насиловать женщин, встреченных на улице, тратить на миллион франков пороха и оставлять позади себя нищету и холеру.
Вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.
Что они сделали, военные люди, для доказательства хоть малой толики ума? Ничего. Что они изобрели? Пушки и ружья. И только.
Разве изобретатель тачки не больше сделал для человека своей простой и практичной идеей — приладить колесо к двум палкам, чем изобретатели современной фортификации?
Что нам осталось от Греции? Книги, статуи. В победах ли ее величие или в том, что она создала?
Разве персидское нашествие помешало ей впасть в самый омерзительный материализм?
Разве варварские нашествия спасли и возродили Рим?
Разве Наполеон I продолжил великое умственное движение, начатое философами в конце прошлого века?
Так вот, если правительства считают себя, таким образом, вправе приговаривать к смерти народы, то нет ничего удивительного, что иногда и народы считают себя вправе приговаривать к смерти правительства.
Они защищаются. Они правы. Ни у кого нет абсолютного права управлять другими. Оно возможно лишь для блага тех, кем управляют. Тот, кто управляет, обязан избегать войны так же, как капитан корабля — кораблекрушения.
Когда капитан погубит корабль, его судят — и осуждают, если он окажется повинен в небрежности или даже в неспособности.
Почему бы не судить правительства за каждое объявление войны? Если бы народы поняли это, если бы они сами расправлялись с кровожадными властями, если бы они не позволили убивать себя без всяких причин, если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для избиения, — в этот день война умерла бы… Но этот день не придет!
Агэ, 8 апреля
— Хорошая погода, сударь.
Я встаю и поднимаюсь на палубу. Три часа утра; море гладко; беспредельное небо похоже на огромный свод мрака, усеянный огнями. С суши веет легонький бриз.
Кофе вскипел, мы пьем его и, не теряя ни минуты, отплываем, чтобы воспользоваться благоприятным ветром.
Вот мы уже скользим по воде к открытому морю. Берег исчезает; вокруг нас ничего не видно — одна чернота. Какое ощущение, какое волнующее и восхитительное чувство — углубляться так в эту пустую ночь, в это безмолвие, по этой водной глади, далеко-далеко от всего! Кажется, что покидаешь мир, что никогда больше никуда не приедешь, что не будет больше берега, что никогда не наступит день. У моих ног маленький фонарь освещает компас, указывающий мне путь. Надо пройти по крайней мере три мили открытым морем, каков бы ни был ветер, чтобы наверняка обогнуть мысы Ру и Драммон до восхода солнца. Во избежание аварии я велел зажечь сигнальные фонари: на бакборте — красный, на штирборте — зеленый — и наслаждаюсь опьянением этого безмолвного, непрерывного и спокойного бегства.
Вдруг впереди нас раздается крик. Я вздрагиваю, так как голос прозвучал близко, но не могу ничего разглядеть, ничего, кроме сплошной стены мрака, в которую я погружаюсь и которая вновь смыкается позади меня. Ремон, стоящий на вахте на носу, говорит мне:
— Это тартана, идущая на восток: подойдите-ка, сударь, мы проходим позади нее.
И внезапно, совсем близко, вырастает некий призрак, страшный и смутный, — огромная качающаяся на волнах тень высокого паруса; она видна несколько секунд и почти тотчас же исчезает. Нет ничего более причудливого, более фантастического, более волнующего, чем эти мимолетные видения на море ночью. Рыбацкие суда и шаланды с песком всегда идут без огней; их замечаешь только, едва не задев, и от этого сжимается сердце, как от встречи с чем-то сверхъестественным.
Я слышу вдалеке птичий свист. Птица приближается, проносится мимо и исчезает. Почему не могу я блуждать, как она?
Наконец занимается заря, медлительная и неясная, без единого облачка; за ней наступает день, настоящий летний день.
Ремон утверждает, что будет восточный ветер. Бернар по-прежнему настаивает на западном, советует изменить курс и галсом штирборта идти на подымающийся вдали Драммон. Я сразу соглашаюсь с ним, и мы, медленно гонимые замирающим бризом, подходим к Эстерелю. Длинное красное побережье отражается в воде, придавая ей фиолетовый оттенок. Оно причудливо, щетинисто, очаровательно с его бесчисленными мысами и заливами, с капризными и кокетливыми скалами — тысячами причуд восхищающей всех горы. По склонам ее подымаются еловые леса до самых гранитных вершин, похожих на замки, на города, на каменные армии, бегущие друг за другом. А море у подножия горы так прозрачно, что местами можно различить песок или водоросли на его дне.
Конечно, в иные дни я чувствую ужас перед всем существующим, и такой ужас, что хочется умереть. Я испытываю обостреннейшее страдание от неизменной монотонности пейзажей, лиц и мыслей. Ограниченность мира поражает и возмущает меня; мелочность всего окружающего внушает мне отвращение; убожество человеческое подавляет меня.
В другие же дни, наоборот, я всем наслаждаюсь с животной радостью. Если мой беспокойный ум, измученный трудом и перенапряженный, рвется к несвойственным нашей природе надеждам, чтобы, убедившись в их призрачности, снова погрузиться в презрение ко всему, то моя животная плоть опьяняется всеми восторгами жизни. Я люблю небо — как птица, леса — как бродяга-волк, скалы — как серна, высокую траву — за то, что по ней можно валяться, можно носиться, как лошадь, прозрачную воду — за то, что в ней можно плавать, как рыба. Я чувствую, во мне трепещет что-то, свойственное всем видам животных, всем инстинктам, всем смутным желаниям низших тварей. Я люблю землю, как они, а не так, как вы, люди, я люблю ее, не восхищаясь ею, не поэтизируя ее, не приходя в восторг. Я люблю звериной и глубокой любовью, презрительной и священной, все, что живет, все, что растет, все, что мы видим, потому что все это, не беспокоя ума, волнует мне зрение и сердце: и дни, и ночи, и реки, и моря, и бури, и леса, и утренние зори, и взгляд, и плоть женщин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
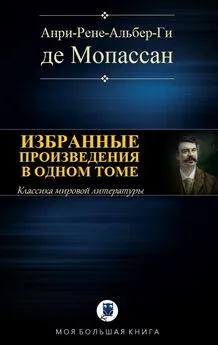
![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060560/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)
![Маргарет Этвуд - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060651/margaret-etvud-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)
![Уильям Дитц - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060653/uilyam-ditc-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-k.webp)


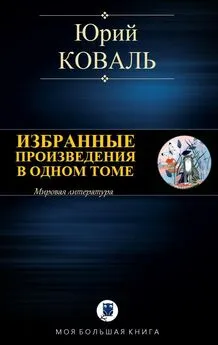
![Василь Быков - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/1092706/vasil-bykov-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)
![Уильям Моэм - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/1092731/uilyam-moem-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-k.webp)
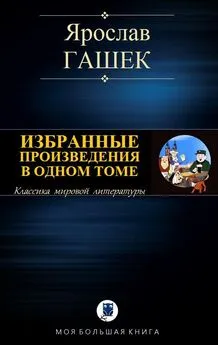
![Джеймс Шмиц - Избранные произведения в одном томе [компиляция]](/books/1092842/dzhejms-shmic-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-k.webp)