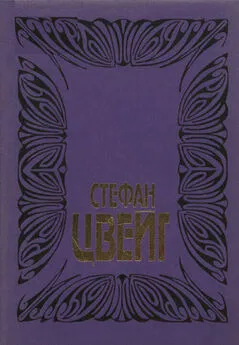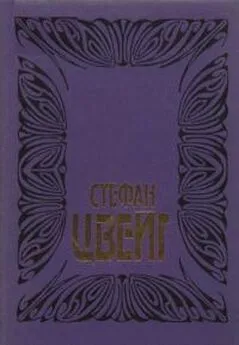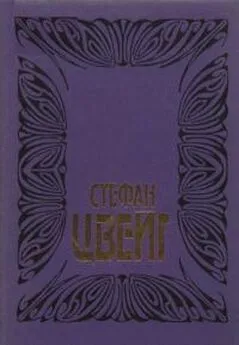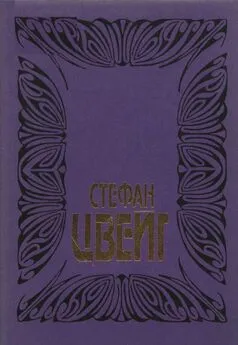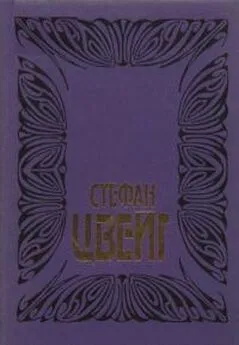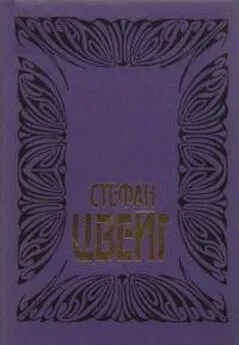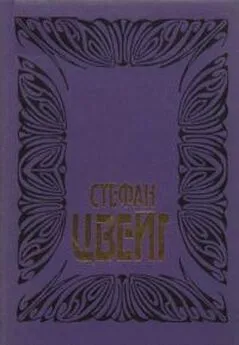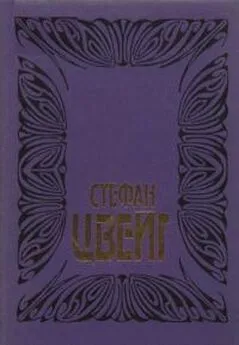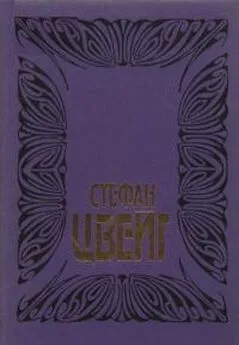Стефан Цвейг - Врачевание и психика. Жозеф Фуше
- Название:Врачевание и психика. Жозеф Фуше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00432-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Врачевание и психика. Жозеф Фуше краткое содержание
В шестой том Собрания сочинений вошли историко-критические очерки «Врачевание и психика» — со статьями о Ф. Месмере, Мери Бекер-Эдди и 3. Фрейде, воплотивших в жизнь идею лечения духом, и «Жозеф Фуше» — о замечательном политическом деятеле эпохи французской революции и Империи.
Врачевание и психика. Жозеф Фуше - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но все министры высказываются осторожно, каждый боится резкими словами причинить боль страдающему человеку, лихорадочно бредящему императору. Только Фуше незачем говорить. Он молчит, он давно сделал свое дело, он уже давно принял меры, чтобы отразить последнюю атаку Наполеона на власть. С объективным любопытством, с любопытством врача, наблюдающего последние отчаянные судороги умирающего, заранее высчитавшего, когда остановится пульс, когда будет сломлено сопротивление, он без сожалений слушает эти тщетные судорожные речи: ни одного слова не сходит с его тонких бескровных уст. Moribundus — погибший, приговоренный к смерти, — какое значение могут иметь его речи, продиктованные отчаянием! Он знает, — пока император здесь опьяняется, стараясь опьянить и других навязчивыми фантазиями, в тысяче шагах отсюда, в Тюильри, собрание совета с немилосердной логикой вершит, наконец, беспрепятственно его — Фуше — волю и желание.
Он сам, правда, так же как и 9 термидора и 21 июня, не появляется в собрании депутатов. Он — этого достаточно — в тени расставил свои батареи, составил план сражения, выбрал подходящую минуту для атаки и подходящего человека: трагического, почти гротескного противника Наполеона — Лафайета. Вернувшись четверть века тому назад героем американской освободительной войны, этот молодой дворянин, увенчанный, несмотря на свой возраст, славой в двух частях света, знаменосец революции, пионер новых идей, любимец своего народа, Лафайет познал рано, слишком рано экстаз могущества. И потом, вдруг, из ничтожества, из спальни Барраса, явился маленький корсиканец, какой-то лейтенант в заплатанной шинели и стоптанных сапогах, и в течение двух лет завладел всем, что он построил и чему положил начало, похищая у него место и славу; подобные вещи не забываются. Рассерженный, обиженный дворянин остается в своем имении, в то время как корсиканец в расшитой мантии императора принимает поклонение европейских князей и вводит новый деспотизм, — более суровый, — деспотизм гения вместо былого деспотизма дворянства. Ни одного луча благоволения не бросает это восходящее солнце на отдаленное поместье; и когда маркиз Лафайет в своем простом костюме приезжает в Париж, этот выскочка едва обращает на него внимание; расшитые золотом сюртуки генералов, мундиры новоиспеченных маршалов сверкают ярче, чем его уже покрывшаяся пылью слава. Лафайет забыт, никто за двадцать лет не называет его имени. Волосы его седеют, похудел и высох его мужественный стан, и никто не призывает его ни в армию, ни в сенат; ему презрительно позволяют сажать розы и картофель в Лагранже. Нет, такие вещи не забываются честолюбцем. И когда народ, вспоминая о революции, в 1815 году снова избирает бывшего любимца своим представителем, и Наполеон вынужден к нему обратиться с речью, Лафайет отвечает холодно и уклончиво — слишком гордый, слишком честный, слишком искренний, чтобы скрыть свою вражду.
Но теперь, подталкиваемый Фуше, он выступает вперед; подавленная ненависть находит себе выход в благоразумии и силе. Впервые раздается опять с трибуны голос старого знаменосца: «Впервые за многие годы подымая голос, который узнают старые друзья свободы, я вынужден напомнить вам об опасностях, грозящих родине, спасение которой всецело в вашей власти». Впервые прозвучало опять слово свободы, и в этот миг оно значит: освобождение от Наполеона. Лафайет предлагает заранее отвергнуть всякую попытку распустить палату, еще раз произвести переворот; восторженно принимают решение объявить народное представительство несменяемым и считать предателем отечества всякого, кто будет повинен в содействии его роспуску.
Кому адресовано это суровое послание, нетрудно отгадать; едва узнав о решении, Наполеон ощутил удар, направленный ему в лицо. «Я должен был разогнать этих людей перед отъездом, — говорил он в бешенстве. — Теперь кончено». На самом же деле еще не все кончено и еще не поздно. Своевременным отречением он мог бы еще спасти для своего сына императорскую корону, а для себя — свободу; он мог бы, с другой стороны, сделать тысячу шагов, отделяющих Елисейский дворец от зала заседаний, и там своим личным присутствием воздействовать на это стадо баранов; но в мировой истории всегда повторяется одно поразительное явление: как раз самые энергичные люди в наиболее ответственную минуту впадают в странную нерешительность, похожую на духовный паралич. Валленштейн перед своим падением, Робеспьер в ночь на 9 термидора — и в такой же мере вожди последней войны — все они именно тогда, когда даже излишняя поспешность была бы меньшей ошибкой, обнаруживают роковую нерешительность.
Наполеон ведет переговоры, спорит с несколькими министрами, которые его равнодушно выслушивают, он бесполезно осуждает ошибки прошлого как раз в тот час, который должен решить его будущее, он обвиняет, он фантазирует, он выжимает из себя пафос — настоящий и театральный, — но не обнаруживает ни малейшего мужества. Он разговаривает, но не действует. И точно так же, как 18 брюмера, — словно история когда-нибудь повторялась в пределах одного жизненного круга, словно аналогия не была всегда самой опасной ошибкой в политике, — он посылает ораторствовать своего брата Люсьена вместо того, чтобы лично явиться и перетянуть на свою сторону депутатов. Но тогда Люсьен имел на своей стороне, в качестве красноречивого защитника, победы брата и могучие руки гренадеров, а его сообщниками были энергичные генералы. Кроме того (об этом Наполеон роковым образом забыл), за эти пятнадцать лет погибло десять миллионов человек. И потому, когда Люсьен теперь поднимается на трибуну и обвиняет французский народ в неблагодарности, в нежелании защищать дело его брата, в Лафайете внезапно прорывается сдерживаемый гнев разочарованной нации против ее палача, и он произносит незабываемые слова, которые, подобно искре, брошенной в пороховой погреб, сразу разрушают все надежды Наполеона. «Как, — обрушивается он на Люсьена, — вы осмеливаетесь бросить нам упрек, что мы недостаточно сделали для вашего брата? Разве вы забыли, что кости наших сыновей, наших братьев повсюду свидетельствуют о нашей верности? В песчаных степях Африки, на берегах Гвадалквивира и Тахо, на берегах Вислы и на ледяных полях Москвы за эти десять с лишком лет погибло ради одного человека три миллиона французов! Ради человека, который еще и сейчас хочет проливать нашу кровь в борьбе с Европой. Этого достаточно, слишком достаточно для одного человека! Теперь наш долг — спасать отечество». Громовое одобрение, по-видимому всеобщее, могло бы убедить Наполеона, что наступил крайний срок добровольно отречься. Но, по-видимому, на земле нет ничего более трудного, как отрекаться от власти. Наполеон медлит. Это промедление стоило его сыну империи, а ему свободы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: