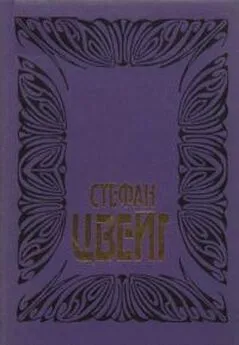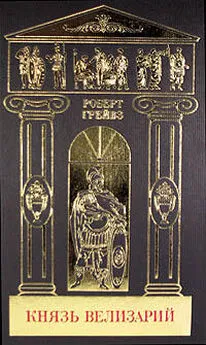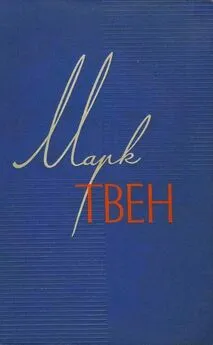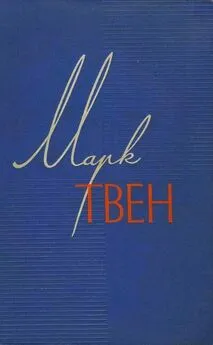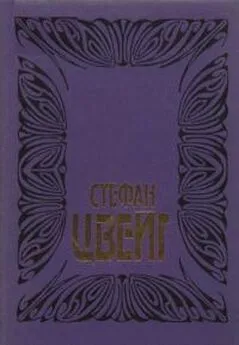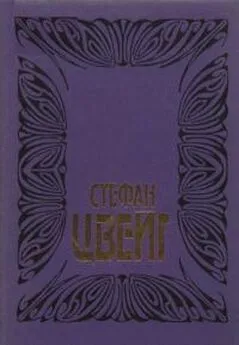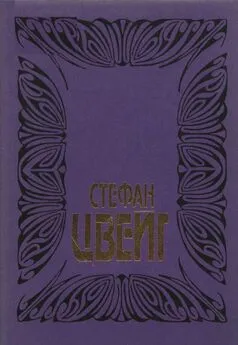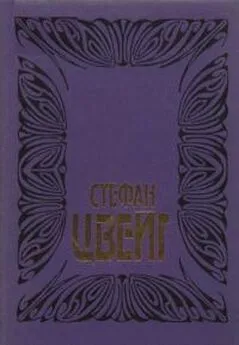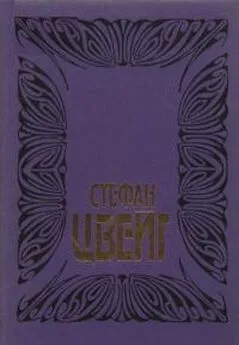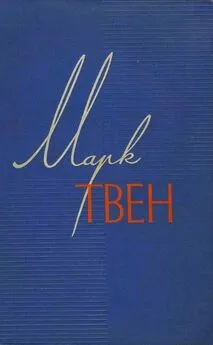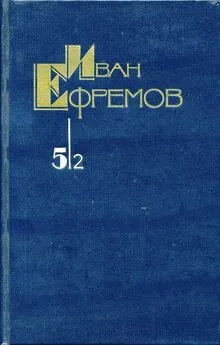Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3
- Название:Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «ТЕРРА»
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00427-8, 5-300-00429-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Цвейг - Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3 краткое содержание
В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».
Цвейг С. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ибо лишь очень поздно, так же, как и к своим романам, приступает Стендаль к духовному воссозданию своей юности в осознанном автобиографическом произведении, поздно и в торжественный миг меланхолического расставания с прошлым. На ступенях Св. Петра в Риме сидит пожилой человек и раздумывает о своей жизни. Еще два-три месяца, и ему исполнится пятьдесят; ушла, навсегда ушла молодость, а с нею женщины и любовь. Пора, кажется, задать вопрос: «Чем же был я? Что представлял я собой?» Миновало время, когда сердце напрягалось, чтобы быть готовым и сильным для порыва и приключения; возраст требует подведения итогов, оглядки назад на самого себя, а не устремления в неизвестность. И вечером, только что вернувшись с раута у посланника, где было так скучно (скучно, потому что больше не одерживаешь побед над женщинами и устаешь от бессвязной беседы), он решает внезапно: «Нужно описать свою жизнь. И когда это будет сделано, я через два или три года буду, может быть, знать, каков же я был: веселый или меланхолик, остроумный или тупица, мужественный или трусливый — и, прежде всего, счастливый или несчастный». И стареющий Стендаль решает осуществить чаяния мальчика, дать цельное описание своей жизни — совершенное самопознание через совершенное самоизображение.
Легко сказать, но трудно выполнить! Ибо Стендаль решил быть в этом «Анри Брюларе» (где он пользуется шифром, чтобы укрыться от всяческого любопытства) «попросту правдивым»; но как трудна — он знает это — эта правдивость, эта неуклонная правда в отношении себя самого, это шныряние между многочисленными капканами тщеславия при такой расплывчатой, такой своевольной памяти! Как найти себя в сумрачном лабиринте минувшего, как различить свет от блуждающих огней, как увернуться от лжи, назойливо поджидающей, в обличье истины, за каждым поворотом дороги? И Стендаль, психолог, находит — впервые и, может быть, единственный из всех — гениальный способ не попасть в руки чрезмерно услужливого фальшивомонетчика — воспоминаний и избежать неправдоподобия, а именно: писать, не откладывая перо в сторону, не перечитывать, не передумывать, полагаться на первый набросок, как на правильный, «чтобы не лгать из тщеславия».
То есть попросту откинуть стыдливость и обдуманность, разражаться неожиданными признаниями, прежде чем судья и цензор, там, внутри, опомнится. Не давать времени художнику стилизовать, приукрашивать сказанное! Уподобляться в работе не живописцу, а фотографу-моменталисту! Все время ловить внутренние движения в характерных для них очертаниях, прежде чем они примут искусственную театральную позу и кокетливо повернутся к наблюдателю!
Стендаль пишет воспоминания о самом себе легким пером, в один прием, и в самом деле никогда не перечитывает написанного, не заботясь о стиле, о цельности, о рельефности до такой степени, словно бы все вместе было только частным письмом к приятелю: Стендаль работает над воспроизведением себя самого, «как он надеется», поистине «не делая для себя никаких иллюзий», «с удовольствием» и «как над частным письмом», и притом, «чтобы не лгать в художественной форме, как Жан-Жак Руссо». Он сознательно жертвует красотой своих мемуаров ради искренности, искусством ради психологии.
В самом деле, с чисто художественной точки зрения, его «Анри Брюлар», так же как и продолжение его, «Воспоминания эготиста», представляет достижение сомнительное, — то и другое набросано слишком поспешно, небрежно, бессистемно. Всякий вспомнившийся ему факт Стендаль с быстротой молнии заносит в книгу, не заботясь, подходит ли он к данному месту или нет. Так же точно, как и в его записных книжках, высокое оказывается в непосредственном соседстве с мелким, отступления на общие темы — с интимнейшими личными признаниями, и расплывчатое многословие нередко задерживает нарастание собственно драматического. Но именно эта непринужденность, эта работа спустя рукава вызывает его на такие откровения, из которых каждое, в качестве психологического документа, действует сильнее, чем любой том. Признания столь решительные, как знаменитое заявление о рискованном влечении к матери и о смертельной, звериной ненависти к отцу, — признания, которые трусливо прячутся у других в дальние уголки подсознания, — не смеют у него вырваться, пока цензор бдит; эти интимности контрабандно переходят границу — иначе выразиться трудно — в моменты сознательно самовнушенного морального безразличия. Только благодаря своей гениальной психологической системе — не давать ощущениям времени причесаться под «красивость» или «мораль» или навести на себя румяна стыдливости — он ловит эти интимности в самые их щекотливые моменты, когда от других, более неуклюжих и медлительных, они отскакивают с криком; обнаженные и еще не успевшие устыдиться, эти застигнутые врасплох грехи и чудачества оказываются внезапно перенесенными на бумагу и впервые глядят прямо в глаза человеку (ибо некоторых деталей никто еще не выманивал из их потаенных нор до этого неустрашимого Крысолова). Какие поразительные строки, какие взрывы демонически-гневного чувства возникают в этом детском сердце! Можно ли забыть сцену, где маленький Анри «падает на колени и благодарит Бога» за то, что умерла ненавистная ему тетка Серафи («один из двух дьяволов, посланных моему несчастному детству», другим был отец)? И тут же рядом — ибо чувства у Стендаля перекрещиваются, как ходы лабиринта — пустячное замечание, что даже этот дьявол однажды на одну (в точности описанную) секунду возбудил в нем раннее эротическое чувство. Какое глубинное смешение изначальных восприятий, какое мастерство и ясность в обособлении их среди дикой путаницы, какая смелость открытого признания! Едва ли кто-нибудь до Стендаля постиг, как многосложен человек, как близко соприкасаются у кончиков его нервных волокон противоречия и противостремления и как еще не оперившаяся детская душа содержит уже в себе, в тончайших наслоениях, пласт за пластом, пошлое и возвышенное, суровое и нежное; и именно с этих случайных, незаметных открытий начинается в его автобиографии анализ.
Стендаль, первый из всех, отказывается, в отношении себя, от идеи однородности, присущей еще и Жан-Жаку Руссо (не говоря уже о таких наивных автобиографах, как Казанова, которым их «я» представляется очевидностью и вместе с тем — единственным рычагом для овладения жизнью); он отчетливо сознает нагроможденность, спутанность, перегруженность своих наслоений, и подобно тому, как археолог по осколку вазы, по надписи на камне получает представление о древних, гигантских эпохах, оставивших след в этом наслоении, так и Стендаль открывает по ничтожным намекам бесконечные области души человеческой, ее властителей и тиранов, ее войны и битвы; производя самораскопки и восстанавливая себя заново, он пролагает своим преемникам и последователям путь к новым смелым завоеваниям. Едва ли откровенное голое любопытство к самому себе одного, отдельного человека оказалось когда-либо более творческим и наукообразным, чем эта небрежно проведенная, но от гения исходящая попытка самоизображения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: