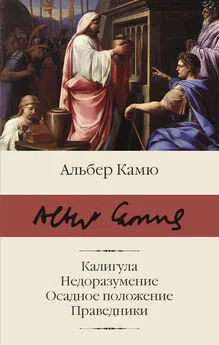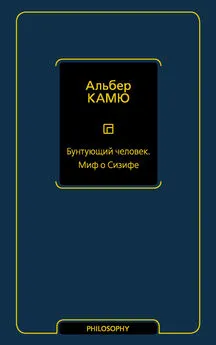Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]
- Название:Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФТМ, АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-090531-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник] краткое содержание
Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока?
Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека, который желает сам управлять своей судьбой, на борьбу против законов общества.
Осмысленная жизнь, по Камю, невозможна без борьбы, как невозможна борьба без воли к свободе, снова и снова ставящей перед нами «проклятые» вопросы бытия.
Бунтующий человек. Недоразумение [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы ни на секунду не должны смешивать грандиозную фигуру Сен-Жюста с унылым Маратом — по меткому замечанию Мишле, обезьяной Руссо. Но драма Сен-Жюста заключается в том, что он, руководствуясь высшими побуждениями и глубочайшей взыскательностью, временами пел в один голос с Маратом. Раскол продолжался, число меньшинств росло, и он уже сам не верил в то, что эшафот служит целям воли всех. Но все-таки Сен-Жюст до конца утверждал, что этот эшафот служит целям общей воли, то есть целям добродетели. «Такая революция, как наша, — это не процесс, а громовой раскат, поражающий злодеев». Добро грохочет, невинность вспыхивает молнией, и молния карает преступников. В контрреволюционеры попадают даже жуиры — особенно жуиры. Сен-Жюст, заявлявший, что идея счастья для Европы внове (откровенно говоря, она была внове для Сен-Жюста, ибо для него история остановилась на Бруте), замечает, что некоторые разделяют «ужасную идею счастья, которое путают с удовольствием». Эти тоже заслуживают кары. В конце концов, речь уже не идет о большинстве и меньшинстве. Вожделенный потерянный рай универсальной невинности отдаляется все больше; на несчастной земле, оглашаемой воплями войн, Сен-Жюст вопреки себе и своим принципам провозглашает, что в час, когда родина в опасности, виновны все. Череда отчетов о зарубежных фракциях, закон от 22 прериаля, речь от 15 апреля 1794 года о необходимости полиции знаменуют этапы его обращения в новую веру. Человек, который с искренним благородством призывал не складывать оружия, пока на земле остается хоть один раб и хозяин, ибо это подло, теперь вынужден соглашаться на приостановление действия Конституции 1793 года и на произвол. В речи в защиту Робеспьера он отрицает славу и бессмертие и ссылается исключительно на абстрактное провидение. Тем самым он признает, что наградой добродетели, служившей ему религией, может быть только история и настоящее и что добродетель должна любой ценой основать собственное царство. Он не любил «жестокую и злую власть», которая, по его словам, «без закона движется к угнетению». Но закон диктуется добродетелью и исходит от народа. Если народ слаб, закон теряет ясность и гнет увеличивается. В этом виноват народ, а не власть, которая в принципе невинна. Столь вопиющее, кровоточащее противоречие могло быть разрешено только еще более жестокой логикой и окончательным — молчаливым даже под страхом смерти — приятием провозглашенных принципов. По меньшей мере Сен-Жюст остался на уровне этих притязаний. В них он наконец обрел свое величие и свободу в веках и на небесах, о которой говорил с такой страстью.
Сен-Жюст действительно предчувствовал, что выдвигаемые им принципы потребуют от него полной самоотдачи; не зря он говорил, что те, кто совершает в мире революции, «те, кто творит добро», могут спать только в могиле. Убежденный, что эти принципы, дабы восторжествовать, должны найти смысл в добродетели и счастье народа, но, возможно, догадываясь, что это недостижимо, он заранее отрезал себе пути к отступлению, публично заявив, что заколется в тот день, когда разочаруется в народе. День разочарования настал, поскольку он усомнился в пользе Террора. «Революция заморожена; все принципы поколеблены; остались только красные колпаки на голове интриганов. Применение Террора притупило восприятие преступления, как крепкая настойка лишает чувствительности нёбо». Сама добродетель «во времена анархии объединяется с преступлением». Он говорил, что все преступления исходят от тирании, которая сама является первым из преступлений, но перед непрекращающимся валом преступлений сама Революция прибегает к тирании и становится преступной. Следовательно, невозможно сократить преступность, как невозможно победить раскол и неистребимую тягу к наслаждениям; остается признать, что народ не оправдал возложенных на него надежд, а потому должен быть порабощен. Но и управлять, сохраняя невиновность, невозможно. Значит, надо терпеть зло или служить ему; надо признать, что либо принципы ошибочны, либо народ и люди как таковые виновны. И тогда загадочный и прекрасный Сен-Жюст делает резкий разворот: «Что за малость — расстаться с жизнью, в которой приходится быть или сообщником, или немым свидетелем зла». Брут, которому пришлось убить себя или других, начал с убийства других. Но других слишком много, всех не убьешь. Значит, остается умереть самому, еще раз доказав, что необузданный бунт колеблется от уничтожения других до самоуничтожения. Но эта задача хотя бы решается легко: достаточно лишь исполнить задуманное. В речи в защиту Робеспьера, произнесенной незадолго до смерти, Сен-Жюст еще раз настаивает на великом принципе, которым он руководствовался в своих действиях и который ляжет в основу его обвинения: «Я не принадлежу ни к одной фракции; я буду бороться с ними всеми». Тем самым он заранее принимал решение общей воли, то есть Национального собрания. Он был готов идти на смерть из любви к принципам и вопреки всякой реальности, поскольку мнение Национального собрания формировалось исключительно красноречием и фанатизмом той или иной фракции. Что поделаешь! Если принципы дают сбой, люди могут спасти их и свою веру единственным способом — умереть ради них. В удушливой жаре июльского Парижа Сен-Жюст, упорно отказываясь признавать реальность мира, доверительно сообщает, что отдает свою жизнь во власть принципов. В то же время он, кажется, мельком замечает, что есть и другая правда, весьма умеренно высказываясь об обвиняемых Бийо-Варенне и Колло д’Эрбуа: «Мне хотелось бы, чтобы они оправдались, а мы стали мудрее». Стиль гильотины, казалось бы, на миг отступает. Но добродетель — это не мудрость, ибо в ней слишком много гордыни. И нож гильотины опустится на эту голову — прекрасную и холодную, как мораль. С момента оглашения Национальным собранием смертного приговора и до мига казни Сен-Жюст не произнесет ни слова. Это его молчание важнее самой смерти. Когда-то он сетовал, что троны окружены молчанием, и потому ему так хотелось красноречия. Но в конце, презирая и тиранию, и загадочный народ, не способный подчиниться чистому разуму, он сам умолкает. Его принципы не согласуются с тем, что есть; вещи не таковы, какими они должны быть; следовательно, остаются только немые и неизменные принципы. Предаться им — значит умереть в истине, умереть от невозможной любви, которая есть противоположность любви. Сен-Жюст умирает, и вместе с ним умирает надежда на новую религию.
«Для здания свободы все камни вытесаны, — говорил Сен-Жюст. — Вы можете выстроить из одних и тех же камней и храм свободы, и ее усыпальницу». Возведение усыпальницы, которую запечатал Наполеон Бонапарт, осуществлялось на принципах «Общественного договора». Руссо, в достаточной мере наделенный здравым смыслом, понимал, что общество его «Договора» годится только для богов. Но последователи восприняли его заветы буквально и попытались сотворить божественность человека. Красное знамя — при прежнем режиме символ закона военного времени, то есть исполнительной власти, — 10 августа 1792 года стало революционным символом. Знаменательный переход, которому Жорес дает следующий комментарий: «Право — это мы, народ. Мы не бунтовщики. Бунтовщики сидят в Тюильри». Но богом не становятся так просто. Даже старые боги не умирают от первого удара, и завершить уничтожение божественного принципа придется революциям XIX века. Тогда Париж восстанет, чтобы поставить короля под власть народного закона и помешать ему восстановить принцип авторитаризма. Труп, который инсургенты 1830 года протащили по залам Тюильри и усадили на трон, дабы воздать ему издевательские почести, имеет именно такое значение. В эту эпоху король еще может быть уважаемым уполномоченным, но теперь его полномочия даются народом, а законом для него является Хартия. Он больше не Величество. Тогда начинается окончательное падение старого режима во Франции, хотя для упрочения нового понадобится дождаться 1848 года; с тех пор и до 1914 года история XIX века будет историей реставрации народных суверенитетов против устаревших монархий, историей утверждения гражданского принципа. Этот принцип восторжествует в 1919 году, когда по всей Европе прокатится волна низложений старорежимных абсолютных монархий [41] Это не коснется только испанской монархии. Зато пала немецкая империя, о которой Вильгельм II говорил: «Она свидетельствует о том, что мы, Гогенцоллерны, получили свою корону только от небес и должны отчитываться только перед небесами».
. Повсюду на смену суверенитету королей на законном и разумном основании приходит суверенитет народов. Только тогда смогут проявиться последствия принципов 89-го года. Мы, ныне живущие, можем первые вынести об этом ясное суждение.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/1100727/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor.webp)

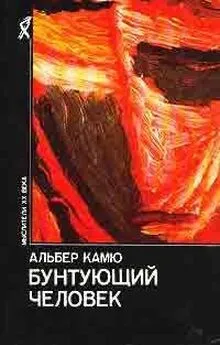
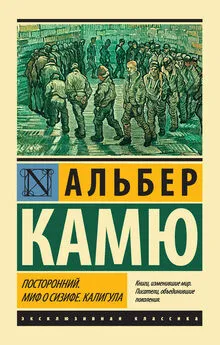
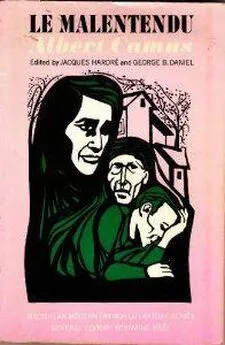
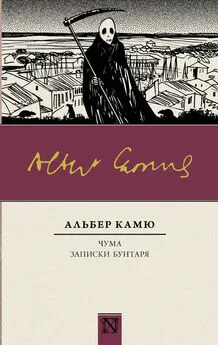
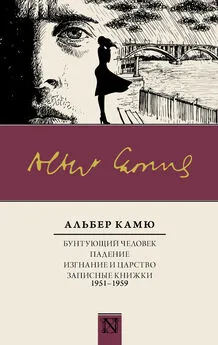
![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/1148759/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh.webp)