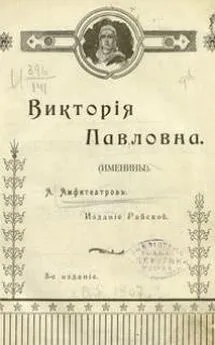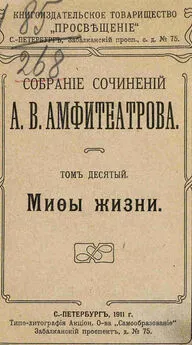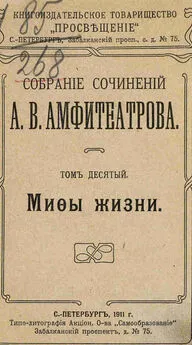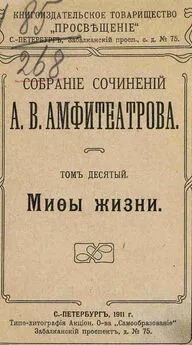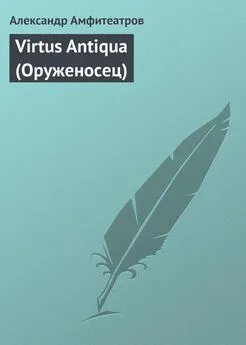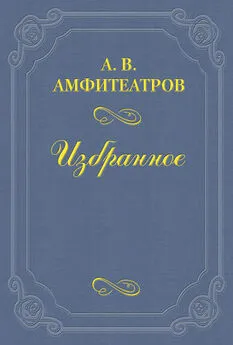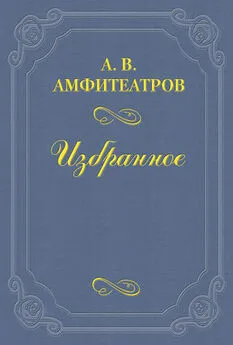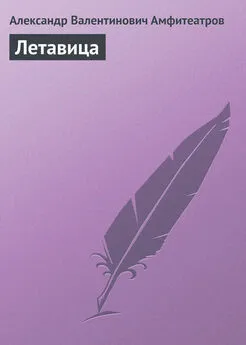Александр Амфитеатров - Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны.
- Название:Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание Райской
- Год:1915
- Город:Санктъ-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Амфитеатров - Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны. краткое содержание
/i/96/642796/img83A8.jpg
empty-line
6
www.rsl.ru
Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ты про меня послушай! — воскликнула она с азартом, в перебив замечанию, которое хотел сделать Зверинцев, но не успел и рта открыть. — Как привела меня Василиса к нему под благословение, я дрожала, как осиновый лист. Потому — ну, сам же ты знаешь, милый человек, какова моя жизнь, пристойно ли мне смотреть святому человеку в провидящие его очи?.. А, как глянул он на меня, веришь ли, будто согрел: сразу весь мой страх и стыд прошли: нет, — думаю, — этот меня не обидит… Трясусь вся, плачу, а боязни нет, и только радостно, что его вижу, и охота — ну, просто, скажу тебе, словно бы, вот пить очень хочется, жаждою палит, и к воде ручьевой тянет, — услышать, что он мне скажет… — Ты, — говорит, — девка? блудом живешь?.. Слышу, — другому, за такие слова, не знаю, что сделала бы, а от него нисколько не обидно, и сама отвечаю: — Грешна, батюшка, девка, кормлюсь от греха человеческого… А он, ничего мною не брезгуя, положил мне руку на плечо: — Ну, ничего, — говорит, — не сокрушай сердца, не отчаивайся: пред Богом и девка человек… И пошел прибирать от Писания… Мария Египетская, — говорит, — либо взять хоть бы святую Пелагею, — были не лучше тебя, да восхотел Господь прославить свою великую милость — и спас, очистил, возвеличил, во святыню возвел… Восхощет, так и тебя взыщет, на путь наведет… А не взыщет, то, стало быть, угодно Ему, чтобы оставалась ты, какая есть. Ему, ведь, сестрица милая, всякие люди нужны: кто во славе, кто в унижении, кто в святости, кто в грехе… А — кому что как Им суждено — это, говорит, не нашего ума дело: Ему виднее, Его нам не перемудрить… — Батюшка, — плачу я, а как мне теперь быть с тем ужасным грехом моим, что я, окаянная, много рожала, а детей теряла?.. И вот опять — поди же ты, Михайло Августович, говори, что он простой человек! — этот свой грех я, может быть, только в подушку шептала темными ночами, на исповеди не всякому попу каялась, а тут — кругом народ стоит, смотрят на меня во все глаза, а я во весь голос каюсь, и ничуть мне не страшно, и на сердце уж такая-то ли свобода и легкота… И — хоть ты меня сейчас под все казни веди, пойду, веселешенька, и ни чуточки мне никого и ничего не страшно… Он, знаешь, этак, потемнел было глазами, личико как бы судорогою дернулось, и ручка его святая у меня на плече задрожала… — Нехорошо ты это делала — говорит, и голос такой, знаешь, глухой, толстый, — вперед остерегись: великий грех, из всех на земле величайший. Богу люди нужны; кто истребляет семена, тот жатву истребляет… а жатва-то Божья близится! Не замедляй же ее, это дело бесовское. К своему, божескому, Бог людей людьми же ведет, а дьявол пакостит и мешает, чтобы не дошли мы: вводит нас во всякий друг против друга грех и вред — вот, даже до человекоубийства… Вперед — строго тебе заказываю: этим не греши. Пошлет Бог тягость, — терпи, неси, роди, корми. А — что было — что же с тобою теперь делать? Уповай: Бог попустил, Бог и простит, — без воли Его и волос не падет с головы человека, так разве бы не защитил Он утерянных младенцев от матери неразумной, если бы не было на то Его попущения?.. Отпущаю, говорит, тебе великий грех твой именем Христовым… Живи, веруй в Его святую милость да побольше молись… Потом обернулся к людям, которые стояли:
— Слышали, — говорит, — что эта женщина сейчас про себя рассказала? Народ говорит: — слышали. — А, если слышали, то знайте же: за такое бесстрашное ее покаяние снял я с нее грех и взял его на себя. И нет, говорит, теперь между нею и Богом никого, кроме меня, и есть, значит, на нее теперь только суд мой, а на меня — Божий!.. И если, говорит, найдется между вами такой злодей человек, который, после того, предаст ее суду человеческому, то все равно, что он меня предал, и будет он от Господа анафема проклят, все равно, как Иуда или Ирод!.. Сказал — и пошел. Народ кто за ним, кто стоит, на меня дивуется… Пошла я — расступились предо мной, точно я становиха, поклоны в пояс… мне-то! Аниске! а?.. А ты говоришь: пройдоха! Врущий ты — врущий и есть…
Рассказ Анисьи произвел на Зверинцева сильное впечатление.
— Кто бы ни был этот ихний Экзакустодиан, — думал он, — а не трус и человек не маленькой души… При всем народе подобное на себя взять, донос запретить… это уже, выходит, не с архиереем война, но маленько и с прокурорским надзором!
А вслух сказал:
— За что же он, если такой жалостливый, ее-то погубил, нашу Викторию Павловну?
— Чем он ее погубил? — огрызнулась Анисья, видимо давно готовым ответом на привычный вопрос, — не погубил, а в закон привел… Божьему делу помог… жена мужа нашла…
— Да не сама ли ты сейчас мне его ругала? Какой он ей муж? Стыдно подумать — не то, что видеть.
— А — какого Бог выбрал и послал. Это уж кому счастье, кому несчастье. Судьбу-то женскую святой Покров батюшка не на земле, а на небе ткет.
— Жаль, тебе не выткал! Куда бы приятнее было видеть!
— То-то, вот, вы, баре, все умнее Бога хотите быть, хотите его поправлять, кому что лучше, кому хуже… Значит, мне была не судьба, а ей судьба. Чего тут еще? Венца поп спроста не наденет, а — как написано на роду.
И, ежась от утреннего холодка, продолжала:
— А кабы не это, что вы напомнили, я бы от моей милой барыни ни за что не отошла, сколь ни лютуй на меня красноносый. Небось, отгрызлась бы. Но — думаю: она от него в тягости, я только что опросталась… в одном дворе! Нехорошо, зазорно, — мне плевать, а на нее от людей будет смех. А тут, слава Богу, и Василиса подъехала. Ну, вижу, эта барыне будет человек верный, есть с кем ее оставить, не выдаст ее, нашего поля ягода!.. С тем и ушла… А видимся мы по-прежнему, и доверенность ее ко мне все та же. Вот хоть бы и теперь — не кому другому, а мне велела бежать за вами…
— С чем бежать-то? — угрюмо переспросил Зверинцев, — с добром или худом?
— Ох, Михайло Августович, — сокрушенно закачала Анисья огромной головою, — жаль мне тебя, старого, не очень с добром… Велела сказать тебе, что уж больно рада была тебя видеть и крепко благодарна тебе, что навестил, никогда не забудет твоей ласки… А только впредь — пожалел бы ты ее, не бывал к ней больше. Потому что, — говорит, — отрезала я себя от прежней жизни и прежних друзей, и тяжко мне смущаться… Тебе — свое, ей — свое… понимаешь?.. Порвалась веревка, — как ни связывай, а узел будет, а этого, говорит, я не хочу… пусть уж лучше концы врозь, чем узел… Ну, значит, и того… не вороши… уйди… не надо… не приходи!..
III.
В последний месяц перед тем, как Виктория Павловна Пшенка, в Рюрикове, объявила мужу своему Ивану Афанасьевичу о своем нежданном положении и отменила предполагавшуюся поездку вдвоем с дочерью за границу, она чрезвычайно сдружилась с человеком преклонных лет, самым уважаемым, заслуженным и народным из всего рюриковского духовенства. Ученый, искренне благочестивый, священник этот захватил Викторию Павловну впечатлением первой же встречи в пансионе Зои Турчаниновой, где он законоучительствовал, и — затем — с каждым днем, влиял на нее все сильнее и глубже, и едва ли не чрез то именно, главным-то образом, что, как будто, совершенно не старался влиять. Из духовных лиц, с которыми жизнь сводила Викторию Павловну до того времени, она не встречала еще ни одного, настолько — казалось — равнодушного к ее религиозным мнениям и настроению. Знавала она попов-фанатиков, недоверчивых и подозрительных, которые ловили ересь или неверие в каждом слове слышимом, в каждом действии наблюдаемом. Знавала попов-неверов: таких, которые, наоборот, чуть не с первого слова, подмигивали и речью и глазами: ты, мол, сударыня, моей рясы не стесняйся, это служебный мундир, а сам я человек просвещенный и свободомыслящий и — ежели ты имеешь склонность к вольнодумному собеседованию, то сделай одолжение, охотно составлю компанию и даже, пожалуй, сам расскажу новейший кощунственный анекдот, — только не насплетничай о том именитым прихожанам и архиерею… Знавала попов к вере усердных, но — формалистов, холодных, как лед, которые, однако, проэкзаменовать каждого нового встречного в вере и обряде считали непременным долгом служебной добросовестности. Знавала и добродушно-беспечных, которые не то, что никаких экзаменов пастве своей не чинили, а и вообще придерживались того взгляда, что, ежели человек упорствует, то не на аркане же его тащить в рай: захочет спастись, так найдет, как спастись, а не найдет, так его Бог спасет; а не спасет его Бог, — значит, так ему, собаке, на роду написано, не стоит о нем и говорить. Знавала страстных и вдумчивых исследователей, которые исповедь обращали в длинные психологические диспуты, рыться в чьей-либо вверяющейся им, омраченной совести полагали своим долгом, призванием и высшим даром. Знавала и таких, которые, обратясь в живые машины треб, давно забыли, что бывают в мире не только религиозные сомнения, волнения, муки колеблющейся совести, искушения буйной мысли, но и что евангелие существует не только для чтения по требнику, а катехизис не только для задавания уроков от сих до сих в классах Закона Божия. Таких, которые, если в воскресенье или праздник не скажут проповеди, то им кажется, будто они что-то украли у себя, у людей и у самого Бога. И таких, которые, при мысли о проповеди, с ожесточением чесали в затылках: обуза ты моя! — и старались раздобыться какою-нибудь старенькою рукописною проповедкою от приятеля-соседа, либо, просто, приспособляли к празднику нечто из Филарета, Евграфа Ловягина, Иннокентия Таврического… Таких, которые, услыхав о новой секте или ереси, немедленно устремлялись— хоть за тысячу верст — чтобы сразиться с нею во имя и славу церковного авторитета. И таких, которые, когда секта или ересь победоносно врывались в их собственные приходы, полагали с наивною искренностью, что это гораздо более касается станового и полиции, чем священника и церкви… Знала изящного и блестящего отца Нила, петербургского Савонароллу, с его домашнею часовнею-капеллою, в которой звучали красноречивейшие проповеди, мешавшие православную прямолинейность с католическою театральностью, причудливо сшивавшие, точно лоскутное одеяло, кусочек Киреевского с кусочком Владимира Соловьева, Константина Леонтьева с тюбингенцами, Достоевского с Ренаном, Иннокентия Борисова с Толстым, Ламенэ с отцом Иоанном. Знала и нахиженского попа-мужика, о. Наума, который о Ламенэ, тюбингенцах, Штраусе, Соловьеве и не слыхивал, да, пожалуй, и слушать не стал бы; служа обедню, между строгими и истовыми возгласами, думал, глядя в окно алтаря, о всходах гречихи, о сенокосе, а то и вполголоса спорил с дьяконом, тоже страстным хозяином, о возможных весенних ценах на хлеб, овес и скотину. Но все они, пламенные и холодные, усердные и небрежные, искренние и притворщики, имели хоть малый отпечаток того профессионального любопытства, который меряет новых знакомых, если не словами, то глазами, аршином вопроса:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: