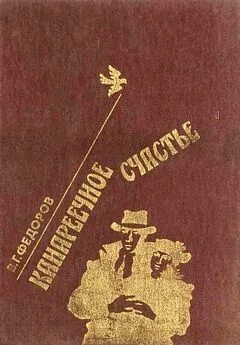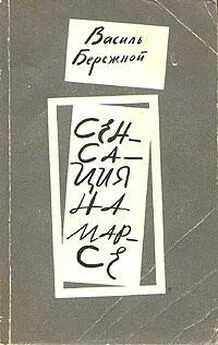Василий Федоров - Канареечное счастье
- Название:Канареечное счастье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1990
- ISBN:5-239-00784-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Федоров - Канареечное счастье краткое содержание
Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю. В книгу вошли роман «Канареечное счастье», повести «Финтифлюшки», «Прекрасная Эсмеральда», рассказы и статьи Федорова.
Канареечное счастье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вы, очевидно, служили раньше в приличном ресторане.
— В ресторане? Почему вы так думаете? — удивился Кравцов.
Лицо Шульца, похожее на клюв старой вороны, любезно осклабилось.
— У вас есть манеры, — сказал он. — Манеры приличного кельнера. И потом вы не подумайте, ведь и я не всегда служил в барах. Помню, в Вене, в одном большом ресторане…
И он пространно рассказывал о своих музыкальных триумфах. Кравцов слушал его рассеянно, облокотившись о железный пюпитр. В самом деле, что мог он ответить Шульцу? Пусть для всех он будет теперь простым музыкантом, виолончелистом, даже лакеем, пусть Шульц, икая после ужина и поглаживая ладонью черные свисающие вниз усы, пусть этот Шульц с небрежно повязанным зеленым галстуком, дирижер Шульц, артист и провинциальная знаменитость, думает о нем все что угодно. И барабанщик Юлиус, принимая его, очевидно, за лакея, любил иногда поговорить об изысканных блюдах, о всяких рагу и майонезах, причем круглое его лицо освещалось мечтательной улыбкой.
— О, герр Кравцов, — восклицал Юлиус почти в упоении. — Если к этому прибавить бутылку доброго рейнского вина…
Он закрывал глаза и сочно чмокал губами. Но Юлиуса он любил, он к нему чувствовал особую симпатию, может быть, именно потому, что Юлиус был барабанщиком. В нем было много темперамента, в этом низеньком широкоплечем Юлиусе, и барабан его гремел, как колесница пророка Ильи, возносящаяся на небо. Юлиус багровел, возвышенная душа его сливалась с инструментом, он был похож издали на священного навозника, перекатывающего гремящий шар. И когда фрейлейн и фрау с запущенными под потолок глазами в блаженном экстазе проносились мимо, Юлиус давал длинную, старательную барабанную трель.
Всегда, когда Кравцов думал о чем-нибудь, в памяти его вставали различные второстепенные мелочи, развертывающиеся затем в определенную картину. Эти ненужные для других мелочи были особенно дороги для него самого, по ним он, как по вехам, шел в странном и обособленном мире, созданном его собственным воображением. Он не мог, например, думать о детстве без того, чтоб не вспомнить вдруг какой-нибудь отрывок разговора, пейзаж, ночное небо, пение соловья или свист утренней иволги. По этим мелочам, как акробат по цирковым канатам, он взбирался на головокружительные и сияющие высоты. Россия поворачивалась к нему издалека во всем своем странном многообразии. Он видел вечернюю зарю и по заре гудящие проволоки, хотя неизвестно, где и когда это было, и фиолетовые чашечки телеграфных столбов, смешно по-рачьи топорщившиеся в небо. Он вспоминал паука в каком-то забытом саду, единственного и неповторимого паука на фоне вечерней паутины, густо крапленной сухими мушками. Он не мог даже представить себе, где, в каком месте видел он этого паука, но он так ясно помнил продранную наверху паутину, и то, как она качалась вверх-вниз, подобно шелковому гамаку. И когда он думал о Наденьке, он вспоминал сначала шорох ее шагов, звук голоса, чуть заметную родинку у виска и запах флердоранжа — ее любимых духов.
— Ты не забудь купить чего-нибудь на ужин! — кричала она ему вдогонку, когда, раскрыв уже дверь в пыльную зелень городского садика, в летнее небо, в пропитанный бензином оранжевый бухарестский воздух, он переступал порог.
На щеке ее отображенная тень качающейся за окном ветки прыгала трепетным полукругом. И вдруг вместе с тенью Наденька сдувалась в пространство, а он бежал по длинному, загибающемуся в конце больничному коридору. Он помнит, как чуть не сбил с ног накрахмаленную до хруста сестру на узком и скользком повороте, как кто-то схватил его за руку и остановил у дверей операционного зала и как ехидно тикали круглые стенные часы, отбивая в тишине звонкие минуты. Постепенно из этих пестрых лоскутьев слагалась вся его прошлая жизнь, и он проходил теперь мысленно по ее извилистым дорогам. Играя на виолончели в этом маленьком немецком городке, похожем на цветную иллюстрацию к учебнику Аллендорфа, он переносился на шесть лет назад, в солнечный миг бессарабского утра и видел себя грязным оборванцем, бредущим по кишиневским улицам. Он только что бежал из Советской России, и глаза его жадно вбирали всю новую, странную и необычную обстановку: груды товаров на лотках, поставленных вдоль улицы, нарядную толпу, казавшуюся ему тогда сборищем миллионеров, зеленые палисадники у домов и выше, на горизонте, крахмальные облака, изрезанные жилками еще обнаженных мартовских веток. Тогда он был охвачен горделивыми мечтами о своей будущей карьере. Он проедет всю Европу с лекциями о Советской России, он расскажет обо всем, что видел сам, он увлечет своею речью европейских буржуа. И несмотря на то, что ему уже исполнилось тогда двадцать девять лет, — мечты принимали реальные формы и плотно вплетались в жизнь, украшая ее волшебными узорами. Уже значительно позже, в Бухаресте, когда он поведал о своих планах Федосею Федосеевичу и когда старик в конце его пылкой речи откровенно расхохотался, — он испытал то незабываемое ощущение разочарования и обиды, какое испытывает ребенок, сорвавший колючий цветок чертополоха и вдруг до крови наколовший руку.
В Бухарест он приехал апрельским вечером (он помнит, как желтыми лимонами выросли из тумана бесчисленные фонари города) и, выйдя с вокзала, сел на скамью у крохотного садика. Он сел, положив рядом с собой ободранный чемодан, приобретенный им в Кишиневе вместе с серыми туфлями у еврея-старьевщика, и, достав записную книжку, стал листать страницы. Город шумел вечерним перекатывающимся шумом, гудки автомобилей плоским кваканьем прорезывали воздух, голубыми усами шевелились по улице снопы электрического света, из кафе и ресторанов доносился беспомощно-наивный и женственный хор скрипок. Мальчишка-газетчик пробежал мимо, визгливо выкрикивая названия вечерних газет: «Адеверул!», «Ментуирея!», «Диминяца!». Ненужный теперь, уводящий назад в прошлое свисток локомотива вдруг заставил Кравцова вздрогнуть, и он впервые почувствовал действительность окружавшей его со всех сторон новой жизни. Наконец при свете уличного фонаря он отыскал нужный ему адрес: книжный склад «Ромул», улица генерала Авереску, № 44. Это был ночлег на сегодня, протекция кишиневского покровителя. Вспомнив теперь своего покровителя, и даровые обеды в приюте для девушек-сирот, и голубей, постоянно воркующих на карнизах темного приютского здания, — он почти умилился. Как там встретят завтра его отсутствие и будет ли обычный субботний пирог с капустой?
Он вспомнил, что с утра почти ничего не ел, и потянулся было достать из чемодана провизию, но боязнь потерять ночлег заставила его быстро вскочить на ноги. Ведь весь его наличный капитал равнялся теперь десяти румынским леям. Он быстро зашагал навстречу вечерней заре, пересеченной причудливыми облаками. Трамваи скрежетали мимо, выплевывая сиреневые молнии. Странный говор толпы, льющейся потоком, казался косноязычным. Было уже совсем темно, когда он звонил у дверей книжного склада, стоя на краю нелепо длинного стеклянного коридора, тускло освещаемого газовым рожком. Его охватило странное предчувствие чего-то необычного, что должно с ним случиться за этой дверью. Он услышал легкие шаги и скрип ветхих половиц под ними; кто-то осторожно нащупывал дверную цепочку. Так же тихо и осторожно открылась дверь, и огромные белые уши, острые и длинные, выставились наружу. Он невольно отступил назад, в глубь коридора. Но тотчас же вслед за ушами выставилась круглая голова, и он заметил, что она обвязана белым платком, а то, что он принял за уши, были только углы платка, завязанные на макушке. Человек был уже очень стар, глаза его, затененные очками, глядели тускло и устало. Одет он был в какой-то заношенный коричневый костюм с протертыми локтями. Лицо было гладко выбрито, как у актера, и необычно румяно, должно быть, от мучившей его зубной лихорадки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: