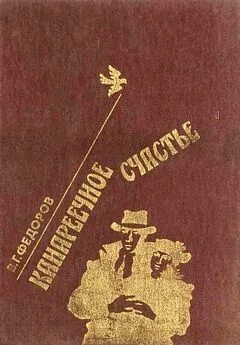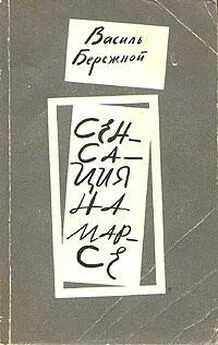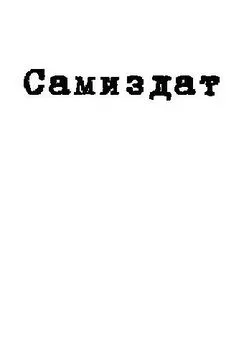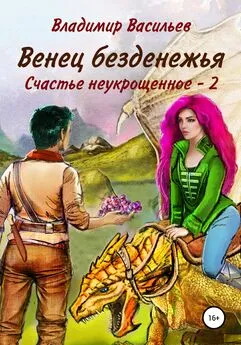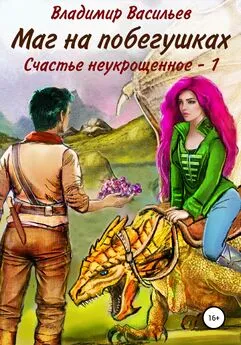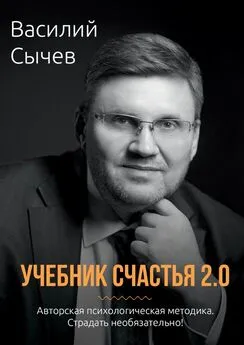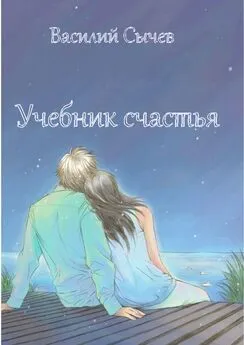Василий Федоров - Канареечное счастье
- Название:Канареечное счастье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1990
- ISBN:5-239-00784-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Федоров - Канареечное счастье краткое содержание
Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю. В книгу вошли роман «Канареечное счастье», повести «Финтифлюшки», «Прекрасная Эсмеральда», рассказы и статьи Федорова.
Канареечное счастье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Существует, — пролепетал безнадежно Кравцов. — «Кузьмичев и компания».
— Милостивый государь (и Данилевский поднялся со стула), я попрошу вас меня не разыгрывать. Я не семилетний мальчишка, чтобы позволить с собой обхождение подобного рода. Я с вами телят не гонял… то есть не пас. Извините.
Тогда с жестом отчаяния Кравцов извлек из портфеля «Розу Востока». Ему стоило немало труда объяснить наконец Данилевскому, о какой компании он говорил. Он упомянул при этом, что чай «Кузьмичев и компания» исключительно первого сорта и что генеральша Бережанская купила у него, например, целую четверть.
— Но ведь вы же не состоите у нас в обществе эмигрантов, — возразил Данилевский. — Вы не удосужились даже у меня записаться. И сразу же, простите, лезете с чаем. Надо сначала зарегистрироваться, внести членские взносы, а потом уже чай предлагать.
— Я не знал. Я запишусь, — произнес Кравцов почти умоляющим голосом. — Теперь у меня очень плохо с деньгами. Но как только я заработаю, я сейчас же у вас запишусь. Непременно у вас запишусь.
— Нет, так нельзя, — упорствовал Данилевский. — Мы не можем покупать чай у совершенно постороннего нам человека. Может быть, вы и не русский даже, а китаец или японец. Откуда я знаю? Может быть, вы португалец или испанец.
Кравцов почувствовал, как густая краска заливает ему щеки и шею.
— Я не испанец. Я русский, — сказал он с неожиданной твердостью, удивившей даже его самого.
Никогда прежде не испытывал он такого волнения. Что-то сжало ему горло. И даже не поклонившись, он вышел из комнаты, прижимая локтем портфель. На улице он вынул платок и вытер вспотевший лоб. Руки его дрожали. Он шел, не отдавая себе отчета куда и зачем, не замечая встречных людей и окружавших его предметов. Он боролся с отчаянием, подымавшимся изнутри. Ему казалось, что на все его прошлое, на весь его мир, доселе прекрасный, чистый, надвигается темная туча. И вот уже тускнеет перламутровый горизонт, и Наденька что-то шепчет в тени, и лицо ее жалко и бледно.
Статьи
Бесшумный расстрел
(Мысли об эмигрантской литературе)
Мне кажется, что после бесконечных и многолетних хождений вокруг да около, пора наконец кому-нибудь высказаться начистоту. Пора сказать правдивое слово, не боясь нападок со стороны, смело и открыто сказать, почему с эмигрантской литературой обстоит у нас дело неблагополучно. Есть много причин, о которых все знают и все же молчат, как о рубашке пресловутого сказочного короля. Но из всех этих «многих» причин можно выделить несколько основных, и о них необходимо сказать в первую очередь. Прежде всего нужно признаться, что у нас в эмиграции нет свободной литературы, точно также как нет ее и в Советской России.
Мы закрепощены так же, как там, с одной стороны, зависимостью от того или иного эмигрантского издания (здесь политика переплетается с протекционизмом), с другой стороны — мы связаны «социальным заказом» доминирующей в эмиграции критики (в Советской России — Кольцов, у нас — имя рек), причем в Советской России этот заказ уже хоть тем удобен, что раз навсегда «установлен» на Карла Маркса, а у нас он меняется каждый год, иногда каждый месяц, и «установка» его то на Пруста, то на Джойса, то на какого-нибудь иного представителя иностранной литературы, часто вовсе не нового, но откопанного досужим критиком для своего личного «эксперимента». Вот уже подлинно по-некрасовски: «Что ему (критику) книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет». Нужно здесь же сделать существенную оговорку: эта мыльная пена «художественных» установок фабрикуется главным образом в Париже. Пеносбиватели давно уже всем известны и результат их работы тоже: эмигрантская литература, главным образом проза — обескровлена.
Но есть у большевиков перед нами одно неопровержимое преимущество. Там хотя и навязывают писателю свою «установку», хотя и давят литераторов чекистской подошвой, но одновременно с этим и подбадривают их, и призывают к работе, и как-то, по-своему, создают атмосферу. (Своеобразный ванька-встанька, подымающийся после щелчка, — вот образ советского литератора.)
Здесь же, за рубежом, эмигрантский писатель постоянно и неизменно слышит только замогильные голоса да карканье литературных ворон, свивших себе прочные гнезда в некоторых наших эмигрантских изданиях. Стоит ли повторять, о чем пишут из года в год наши литературные мортусы? Здесь и «оторванность от родной почвы», и потому «ничего, мол, из вас не выйдет», и соответствующий подбор цитат, ловко пригнанных к их собственному опустошенному мировоззрению, говорящих о тлене и прахе, о напрасной тщете усилий, и т. д., и т. д., здесь и постоянные разговоры о кризисе литературы вообще, а эмигрантской в частности, и многое иное, достаточно, впрочем, известное каждому. Эмигрантский писатель поставлен в положение школьника-новичка, которого всякий, кому только не лень, может дергать за волосы. А если он, Боже храни, идет своим особым путем, независимым от всех этих очередных «установок», то его попросту подвергают остракизму, замалчивают или же вовсе не пропускают в печать. Все это бесспорно, все это правда, и об этом все сейчас упорно молчат.
В конечном итоге немногие эмигрантские писатели уцелеют от такого «бесшумного расстрела», а сколько уже погибших, отошедших от литературы, имена которых больно назвать в печати. А между тем никогда и никому из русских писателей не приходилось жить в столь стесненных условиях, когда и жалкая комната Белинского с геранями в окнах чудится чуть ли не «буржуазным раем». Никогда и ни у кого из русских писателей не было так мало свободного времени «для себя», не было такого душевного одиночества, заброшенности, зависимости и подневольности. И никто никогда не посылал своих творений в такое безвоздушное, в такое стратосферическое путешествие — откуда ни отклика, ни звука, ни поддержки. Что же, по-гоголевски? «Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?» Но «батько» — он же русский читатель — расселся по всему земному шару, от мыса Доброй Надежды до Клондайка и Калифорнии, и если даже услышит случайно, то не пробиться ему сквозь тысячи километров, не произнести нужного, ободряющего слова.
И вся самоотверженная работа эмигрантского литератора превращается в конце концов в «исторический документ» для того будущего русского приват-доцента, который, чтоб стать профессором, приготовит ученую диссертацию «О некоторых попытках литературы в изгнании». Что же, работать только для этого будущего историка? Нет, надо работать для общего русского дела. Работать в молчании, стиснув зубы. Работать с оглядкой на русских классиков, а не на их искривленное отражение в западноевропейских литературах, и если нужно, то работать «вплоть до бесшумного расстрела», до той «высшей меры наказания», какую наложила на всех инакомыслящих «самоизбравшаяся» и царствующая ныне элита. Расти «под кирпичом», как растут под ним на лугу весенние травы, расти полураздавленным, расти вкось и вкривь, но расти во что бы то ни стало, даже без надежды, что кто-нибудь подымет тяжелый кирпич, ту «штемпелеванную калошу», о которой говорил недавно Д. В. Философов. И если случится чудо и кирпич будет все-таки сдвинут, то уцелеют лишь те немногие, кто «по-гинденбурговски» обладал крепкими нервами, кто не испугался зловещих сов и жестокой изгнаннической судьбы, кто имел перед собой одну крепкую цель: исполнить свой долг перед будущей освобожденной Россией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: