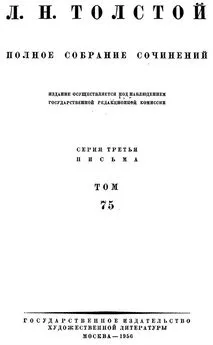Полное собрание сочинений. Том 75
- Название:Полное собрание сочинений. Том 75
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Полное собрание сочинений. Том 75 краткое содержание
Полное собрание сочинений. Том 75 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
VII
Толстой неоднократно высказывает в письмах мысль о том, что все социальные бедствия, жестокости и несправедливости происходят в конечном счете от «отсутствия религии», от утраты человечеством христианской нравственности.
Примечательно, что Толстой не считал обязательным признаком «истинной» религии веру в бога. Религия, говорил он, это «то отношение, которое устанавливает человек к богу или, кто не верит в бога, то к миру, ко всему бесконечному, по времени и пространству, окружающему человека». 40 40 T. 36, стр. 440.
Категорически отрицая то значение, которое придавала религии официальная церковь, обличая церковь как одно из самых гнусных орудий одурманивания и закабаления народных масс, писатель называл «истинной» религией «простое разумное объяснение смысла жизни, из которого вместо прежнего исполнения обрядов с большей обязательностью, чем прежде, вытекает исполнение жизненных, нравственных требований». 41 41 Там же ; стр. 199.
Под религиозным сознанием Толстой по сути дела разумел сознание этическое. «Я говорю: религиозный, но разумею простого, неиспорченного человека», 42 42 Т. 55, стр. 313.
— писал он.
Именно «рост» такого рода этического сознания Толстой и считал главным признаком общественного прогресса, а его недостаточность — основной причиной всех имевших место в истории революций, в том числе и русской.
Толстой не смог понять и объяснить действий и сознания народных масс материальными условиями их существования и в силу этого вынужден был признать в индивидуальном сознании не только решающий, но и исходный фактор общественной жизни и исторического развития.
В такой постановке вопроса народное сознание из конкретно-исторической силы превращалось в силу не только метафизическую, но и мистическую. Оно им абсолютизировалось и апологетизировалось, со всеми присущими ему величием и слабостями, разумом и предрассудками.
Так, негодуя на своего корреспондента В. Д. Фролова, желавшего «очистить религиозные понятия народа», Толстой с возмущением добавлял: «Того народа, всю высоту религиозного миропонимания которого вы не понимаете, потому что не в силах понять того народа, который воспитал, кормит всех нас». Неколебимая вера Толстого в непогрешимость и высоту «религиозного» сознания народа нашла свое выражение и в письме к А. М. Томилиной, в парадоксальном, если не сказать более, противопоставлении «безграмотной», но «просвещенной старушки», которая знает, «что есть бог» и исполняет его «закон», предписывающий «жить с людьми в согласии и любви», — «жалкой по своему невежеству» женщине, знающей «все подробности крестовых походов, интегральных счислений, спектральный анализ и т. п.», но «не знающей бога, его закона и смысла жизни».
Когда Толстой неоднократно повторял, что главное дело «истинных» сторонников народной революции — это совсем не политическая борьба, а «уяснение религиозного сознания», то он в своеобразной и противоречивой форме отражал охватившую народные массы, но еще во многом смутную потребность «совершенно другой жизни, жизни разумной, братской, без безумной роскоши одних и нищеты и невежества других, без казней, разврата, без насилия, без вооружений, без войн». 43 43 T. 36, стр. 194.
Иллюзорные надежды на возможность достижения «братской жизни» мирным путем, без революционного свержения народными массами господства помещиков и капиталистов, проникали реакционную проповедь Толстого.
«Уяснение» всеми и каждым философии всеобщей любви, покорности и смирения, проповедуемых им нравственных норм и принципов и было тем, что Толстой разумел под «нравственным самоусовершенствованием» или «внутренней работой» людей и считал единственно реальным путем к тому, чтобы «под корень вырвать» «существующее, царствующее зло».
Проникнутая идеей единства и братства народов, страстным протестом против всех видов и форм классового, государственного и национального угнетения, против колониального грабежа и империалистических войн, критика Толстого своим пафосом вызывала и укрепляла недовольство народов, усиливала в них дух социального протеста, волю к преобразованию общественной действительности. Религиозная проповедь писателя, его призывы к пассивному «неучастию в зле», его требование нравственного перерождения людей тормозили дело революционного просвещения народа, мешали его освободительной борьбе.
О полной несостоятельности предлагавшихся Толстым рецептов спасения человечества посредством непротивления злу насилием и нравственного самоусовершенствования свидетельствуют его письма китайцу Чжан Чин-туну.
В своих советах Чжан Чин-туну Толстой возвеличивает как раз то, что Ленин назвал «восточной неподвижностью» строя жизни русского и азиатских народов. В «косности» и в «духе терпения» китайского народа Толстой видит его превосходство над «христианскими» народами крупнейших капиталистических стран и, выражая свое отрицательное отношение к предстоящим переменам в государственном и общественном устройстве Китая, призывает китайский «земледельческий» народ совместно с «земледельческим» русским народом «развивать свои духовные силы, а не технические усовершенствования».
Патриархальная косность дореволюционного общественного строя русской жизни, скованной пережитками крепостничества, и явилась той исторической почвой, на которой возникла толстовская религиозная проповедь, философия непротивления и пассивизма, вопреки демократическим идеалам писателя, обращавшаяся против революционно-демократической борьбы масс. Со всей очевидностью это обнаружилось перед лицом революционных событий 1905 г. и проявилось также в целом ряде писем Толстого того времени. Многие из них звучат как противореволюционная проповедь, в то время как рядом мы находим высказывания писателя, свидетельствующие о его горячем и искреннем сочувствии революции.
И недаром многие из прежних последователей Толстого отшатнулись от него в годы революции. Иные, как, например, замечательный критик-демократ В. В. Стасов, упрекали горячо любимого и уважаемого ими писателя в непоследовательности и отказывались понять его демонстративное отстранение от всенародной борьбы с тем, что он так страстно сам ненавидел и гневно обличал; другие, как его последователи И. П. Борунов, А. В. Юшко, М. С. Дудченко, высказывали свои серьезные сомнения в реальности и практическом значении толстовской религиозной проповеди.
Один из самых убежденных когда-то толстовцев, И. М. Трегубов, в дни революции указывал своему учителю, что многие из его прежних единомышленников, «не найдя поддержки своим силам в пассивном христианстве, уходят в ряды борцов, далеких от христианства». «Только вы, Чертков и Бирюков, — пишет Трегубов Толстому, — продолжаете говорить о самосовершенствовании, но зато, кажется, вы одни только останетесь стоять на своем столбу». В ответ на такого рода заявление и упреки Толстой ничего не мог сказать по существу и только предлагал «не спорить» и «искать точки общения», о чем и писал тому же Трегубову.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: