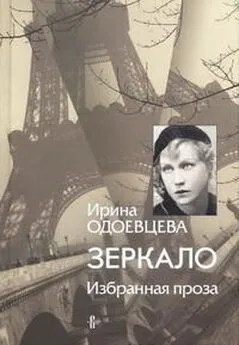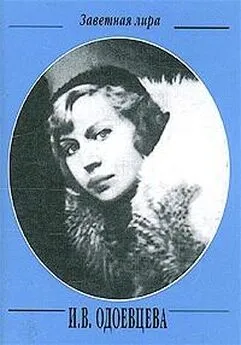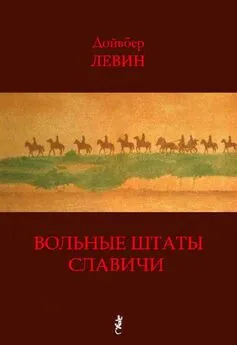Ирина Одоевцева - Зеркало. Избранная проза
- Название:Зеркало. Избранная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский путь
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-85887-376-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Одоевцева - Зеркало. Избранная проза краткое содержание
Сборник предназначен для широкого круга читателей, а также специалистов по литературе русской эмиграции, преподавателей, студентов и аспирантов, изучающих культуру русского зарубежья.
Зеркало. Избранная проза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На фоне столь мощной традиции не могут не обратить на себя внимания слова Люки в самом начале романа «Ангел смерти»: «Значит, кончено детство. Что ж, и слава Богу. Не жалко. Это все выдумки про “золотое детство”».
В любом произведении о ребенке или подростке в определенной степени проявляются те или иные жанровые признаки романа воспитания. В традиционном романе воспитания, корни которого восходят к середине XVIII века, инициация во взрослую жизнь совершается через ряд испытаний, в результате которых ребенок приобретает опыт, навыки социального общения, моральные устои, четкие представления о мире. В классических образцах этого жанра (Ж.-Ж. Руссо, Х.-М. Виланд, И-В. Гёте, Р. Теппфер и др.) процесс постепенного взросления, как правило под руководством мудрого учителя, осмысливается положительно, как залог успеха всей последующей жизни. На русской почве вопрос о взрослении решался неоднозначно из-за чрезмерной идеализации детства. О том, что подобное отношение влекло за собой незрелость русского общества в целом, предупреждали многие, от И.А. Гончарова, создавшего в образе Обломова незабываемый портрет «большого ребенка», до А.П. Чехова, сделавшего главным предметом сентиментальных излияний не менее инфантильных героев «Вишневого сада» именно детскую.
При очевидном отсутствии каких-либо попыток идеализации детства роман «Ангел смерти» отличается и от традиционной схемы романа воспитания. Правда, Люка проходит через ряд испытаний, включая физиологические признаки взросления, первую влюбленность, смерть сестры (смерть матери, напомним, обозначила конец «счастливого детства» Николеньки Иртенева). Однако происходит ли при этом, как того требовал жанровый канон, подлинная инициация, качественный скачок, приобретение бесценного опыта, пусть и сопряженного с утратами, но необходимого для вступления во взрослую жизнь? Повествовательная манера Одоевцевой делает затруднительным ответ на этот вопрос именно из-за того, что до самой последней страницы практически все происходящее подается с точки зрения Люки. В отличие, скажем, от повести Толстого, детское сознание не корректируется у Одоевцевой голосом взрослого рассказчика. В то же время Одоевцева по-модернистски «инвертирует» представления о детстве как о времени чистоты и невинности, насыщая повествование латентной эротикой. Недаром Г. Адамович счел необходимым сделать в своей рецензии следующее замечание: «Можно было бы указать, что такие лукаво-беспечные, наивно-жестокие, невинно-порочные подростки еще не знакомы нашей литературе и что это новая в ней тема, достойная пристального внимания…» [15] Адамович Г. Литературные беседы. Шмелев — Ирина Одоевцева — Довид Кнут // Звено. 1928. № 6. С. 294.
.
Лейтмотивом романа являются ночные видения Люки, связанные с ее смутными эротическими переживаниями: ей является огромный «ангел смерти», о котором она читала в поэме Лермонтова. Лермонтовская тема, заявленная прямо в заглавии, как рефрен проходит через весь роман. Столь декларативная ориентация Одоевцевой на поэта-романтика предвосхитила дебаты о родословной литературы русского зарубежья. «Патриархи» русской диаспоры вполне предсказуемо объявили Пушкина символом «вывезенной» за границу русской культуры и залогом ее грядущего возрождения в посткоммунистической России. Ежегодно день рождения поэта отмечался во всех центрах диаспоры как День русской культуры. Разумеется, в сталинской России культ Пушкина творился не менее активно, а некоторые особо рьяные «мифотворцы» едва не объявляли поэта предтечей русской революции. Апогея эти процессы достигли в юбилейный 1937 год [16] См.: Перельмутер В. «Нам целый мир чужбина…»: Три взгляда на Пушкинские торжества 1937 года в Русском Зарубежье // Пушкин в эмиграции. 1937 / сост., коммент., вступ. очерк В. Перельмутера. М.: Прогресс-Традиция, 1999; Филин М. «В краю чужом…»: Зарубежная Россия и Пушкин / сост. М. Филин. М.: Русский мир; Рыбинское подворье, 1998.
, но идеологизация Пушкина в обоих лагерях началась практически сразу после революции. Не принимая столь массированной сакрализации Пушкина, многие молодые авторы первой волны эмиграции обратились к Лермонтову, в котором видели обреченного на поражение индивидуалиста. Лермонтовское стихотворение «Дума» стало программным текстом для молодых авторов русского зарубежья, которые воспринимали себя как такое же поколение «безвременья», что и генерация 1830-х годов. Особенно явно подобная перекличка с Лермонтовым на поколенческом уровне возникает в эпистолярном романе Юрия Фельзена «Письма о Лермонтове».
Лермонтов оказался близок авторам эмиграции и как основоположник русской психологической прозы. Молодые парижские писатели, вошедшие в историю как «незамеченное поколение» (по формулировке Владимира Варшавского [17] См.: Варшавский B.C. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. (В самом этом определении содержится отсылка не только к западному понятию «потерянного поколения», но и к горьким раздумьям Лермонтова о бесславном уделе своих современников: «Толпой угрюмою и скоро позабытой // Над миром мы пройдем без шума и следа…»).
), стремились проникнуть в бездны внутреннего мира, отвергая литературность ради создания интроспективных «человеческих документов», разного рода исповедей, свидетельств, дневников. Главной же причиной предпочтения Лермонтова Пушкину было ощущение младоэмиграции, что после пережитого ею метафизического и экзистенциального кризиса пушкинская гармония, красота и легкость ушли безвозвратно, оказались иллюзией. Недаром рефреном через «Распад атома»
Г. Иванова пройдет: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» [18] Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2: Проза. С. 32.
И тем ближе «детям эмиграции» станет мятежный и трагический гений Лермонтова. Находясь в несколько привилегированном положении благодаря своему статусу любимой ученицы Николая Гумилева, тому, что известность пришла к ней еще до эмиграции, а также замужеству (через Георгия Иванова двери во все литературные салоны русского Парижа были для нее широко открыты), Одоевцева была достаточно далека от «незамеченного поколения», долгое время находившегося на периферии организованной культурной диаспоры. Тем не менее уже в своем первом романе она улавливает тенденцию молодой парижской литературы, актуализируя наследие Лермонтова, и даже позволяет своей героине сделать игривое замечание в адрес Пушкина (в ответ на заявление сестры Веры по поводу не очень выигрышной внешности ее жениха, который кажется ей похожим на барана, Люка восклицает: «Велика беда. Пушкин тоже был похож на овцу»). Эта полная иронии ассоциация между «солнцем русской поэзии» и самым прозаическим персонажем романа создает еще больший контраст с возвышенно-поэтическим образом Лермонтова.
Интервал:
Закладка: