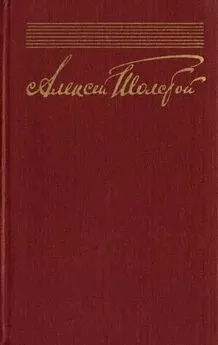Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 10. Публицистика
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 10. Публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 10. Публицистика краткое содержание
Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ
Публицистика
Составление и комментарии В. Баранова
В последний том Собрания сочинений А. Н. Толстого вошли лучшие образцы его публицистики: избранные статьи, очерки, беседы, выступления 1903 - 1945 годов и последний цикл рассказов военных лет "Рассказы Ивана Сударева".
Собрание сочинений в десяти томах. Том 10. Публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, - постигали французскую галантность, но пребывать долго в изящном утеснении было трудно, и, затем - ух, черт!.. Зови девок... И трепака в расстегнутой венгерке.
Все же иностранная фраза привилась. Но народ ее не принял, и замечательно, что спустя два века народ в России говорил лучше, чем интеллигенция, чего нигде на Западе нет. Великие русские писатели ломали традиционно литературную форму, но все же в массе литературы, в обиходе, она оставалась. И вот, видимо теперь, окончательно разрушается эта, давно уже истлевшая, тесная и душная одежда на русской литературной речи, стало быть - на мышлении, на сознании...
РОССИЯ ГРИГОРЬЕВА
У Григорьева много почитателей и не меньше врагов. Иные считают его "большевиком" в живописи, иные оскорблены его "Расеей", иные силятся постичь через него какую-то знакомую сущность молчаливого, как камень, загадочного славянского лица, иные с гневом отворачиваются: - это ложь, такой России нет и не было.
На меня живопись Григорьева производит двойственное впечатление: в ней - чудесная плоть искусства, и вместе - что-то недоговоренное, что-то нарочно подчеркнутое. Стоя перед его полотнами, я чувствую: "Вот крупный талант, но он в чем-то насилует меня".
Всматриваюсь в его полотна: - они цвета спелых хлебов, цвета северной зелени, - прозрачные, в них много алого, легкого, незлобивого: славянские цвета.
Всматриваюсь далее: из полотен выступают морщинистые, скуластые лица, - раскосые, красноватые, звериные глаза. Рядом с головой человека голова зверя, та же в них окаменелая тупость: это сыны земли, глухой, убогой жизни. Тысячелетние морщины их и впадины - те же, что и на человеческих лицах, на звериных мордах. Изрытые лица, изрытая земля... Звериная Россия, забытая людьми и богом, убогая земля.
В этой России есть правда, темная и древняя. Это - вековечная, еще допетровская Русь, первобытная, до нынешних дней дремавшая по чащобам славянщина, татарщина, идольская, лыковая земля.
Эту лыковую Русь и я и вы носите в себе: оттого так и волнуют полотна Григорьева, что через них глядишь в темную глубь себя, где на дне, неизжитая, глухая, спит эта лыковая тоска, эта морщина древней земли.
Но ведь Россия иная. Над нами отшумели два пышных и творческих века. В день, когда я пишу это, - мы еще переходим через бездну Революции, через грань неведомой, новой эпохи. Зачем же меня пытают снова этим каменным, отжившим призраком допетровской Руси?
В этом - сопротивление Григорьеву. Он не показывает России, страшной, мученической, творческой, великой и безумной в делах, - он видит в ней одно лишь первоосновное окостенение, каменную бабу, простоявшую на кургане тысячу лет. Его "Расея" - я бы сказал - особенное, издревле вечное, мужицкое подполье. Это подполье молчаливо. У него до Григорьева, быть может, почти и не было своего поэта. Григорьев взломал плиту этого подполья и выволок на свет - раскосое, скуластое, изрытое земляными морщинами лицо полузверя, получеловека. Зачем? Затем, что оно еще живо, неизжито, затем, что у меня, у каждого в подполье души эта звериная морщина. В сказках и присказках, в песнях, в росписи храмов и утвари, в одеждах и архитектуре дошла до нас иная Русь, - певучая, с легкой душой. Эта Русь строила храмы, плясала в хороводах, слагала песни, слаще птичьих, ходила воевать земли, строила государство и, когда пришли сроки, волшебным голосом запела в бессмертную свирель Пушкина. Этой Руси - жить.
Другая Русь, григорьевская, допетровская, лыковая, - дошла до нас в молчаливых морщинах лиц, в кровяном отблеске раскосых глаз, в страшных преданиях да в судебных записях, которые составляли и записывали премудрые дьяки в сводчатых темных подвалах Разбойного и Преображенского приказов. Чудесно заглянуть в это издревле вечное подполье. Оживает старая Русь, как жили. Вот город. Храм. Кругом, на церковной площади стоят кружала, царевы кабаки. За ними - порядки бревенчатых, с подклетями, изб, без окон. Окошки величиной с две ладони, затянутые пузырем, выходят на двор. В прокопченных, темных избах человек виден по пояс, - голова и плечи плавают в дыму. Дым выходит из прорези над потолком. На полатях - прокопченные ребятишки, в подполье - домовой.
На площади, загаженной и замусоренной, с рассвета стоят безместные попы, кричат людишкам, чтобы звали служить молебен, ругаются, дерутся на кулачках, - скука, безделье, нищета. Пономарь влез на колокольню, ударил в колокол. Народ крестится, иные идут в храм, иные, стоя на площади, среди распряженных телег и навоза, глазеют на кабаки. А из кабаков, в жаркий день, - высовываются голые женки, говорят срамные слова, скачут, заманивают в кружало или в баню - париться. Иной - сдвинет шапку и пошел гулять. Иной плюнет, заходит в храм.
На амвоне косматый дьякон ревет с перепою, как зверь. Подвернешься ему на дороге - даст по затылку. В ином храме, в подпольи, на ужас прихожанам, в память адских мук, стонет церковный вор, посаженный под пол на цепь, либо богохульник на покаянии. Сидит, стонет, скрежещет цепями. Ужас и мука.
В кружалах, у столов, на лавках - гуляют, пьют, дерутся разные людишки: безместный поп, и заезжий купец - торговый гость, и земский ярыжка, и цыган - цирюльник и коновал, и княжеский холоп, и тяглый человек, и захожий вор, и казак... Орут, шлепают по спинам срамных женок, пропивают деньги, и кафтаны, и шапку, и сапоги, и исподнее.
Пропившегося до нитки целовальник выбивает из кабака вон, на площадь. Пьяненький человек грозится, идет, шатается и валится в грязь или в пыль. А с пьяного снимут уж и остальное.
Того же, кто станет в кружале уговаривать пьяного совсем не пропиваться, - того - царевым указом - схватив, ведут в приказную избу и у крыльца бьют батогами, - один садится на голову, другой на ноги, третий бьет. Иным же, по приказу воеводы, отсекают обе ноги по колено и бросают на площади - чтобы впредь другим не было повадно отбивать цареву копейку.
В городе житье не хитрое, а в деревнях и того проще. От такой жизни пустела душа, каменели лица, краснели глаза в курном дыму. Нет, этой Руси - не жить.
Остатки этой жизни дошли и до нас. Еще мальчиком я помню у нас в деревне Сосновке две курных избы: в одной жил бобыль Савостьян, в другой известный всей деревне вор Хомяков с семьей. Я помню сморщенные, как земля, лица старух, немого пастуха Ликсея, пасшего некогда - в том же драном полушубке, в разбитых лаптях, с мочальным кнутом - коров Ивана Грозного. Я помню, как на Покров у мирского амбара, под рогожей, лежало тело колдуньи, убитой осью: - убили, напившись, ребята, чтобы не портила девок. Еще год тому назад иные деревни в России опахивались от Черной Смерти. В темную ночь девки, раздевшись донага, распустив волосы, впрягались в соху или плуг и, крича и визжа, пропахивали кругом селения борозду, за которую не может переходить ни чума, ни холера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: