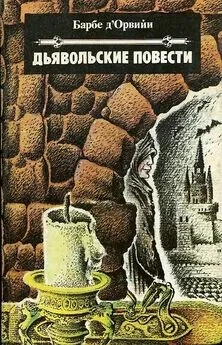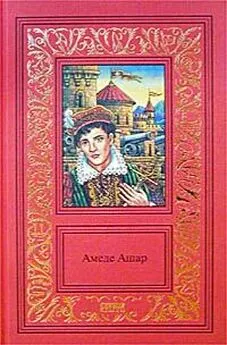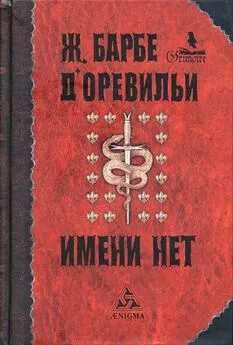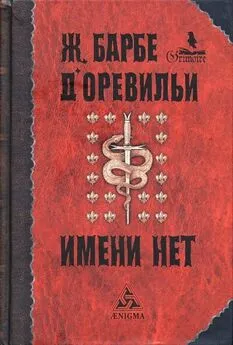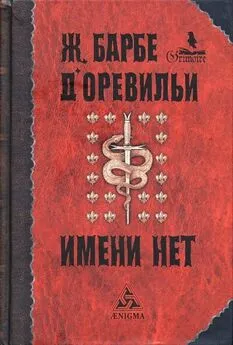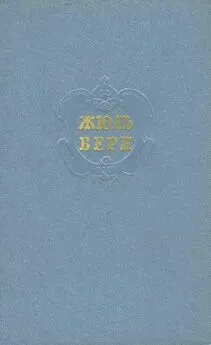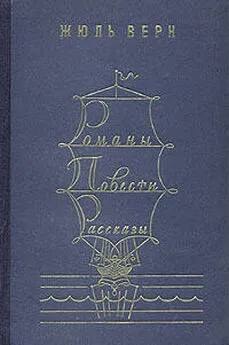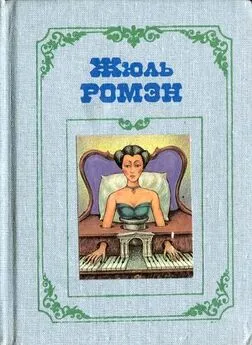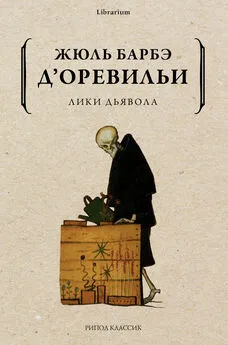Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести
- Название:Дьявольские повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Лениздат»
- Год:1993
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-289-01318-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести краткое содержание
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.
В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.
Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи». Так более правильно с точки зрения устоявшейся транскрипции французских имен (d'Aurevilly), опирающуюся более на написание, чем на реальное произношение, и подтверждено авторитетом М. Волошина, который явно лучше современных переводчиков знал и русский и французский языки. Тем более, что эта транскрипция более привычна русскому читателю (сб. «Святая ночь», М., Изд-во политической литературы, 1991; «Литературная энциклопедия» и т. д.).
Amfortas
Дьявольские повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Что вы несете, Агата? — неколебимо спокойно возразила г-жа де Фержоль. — Ушел? Отец Рикюльф? Что вам взбрело в голову, моя милая! Сегодня Страстная суббота, а завтра, в Светлое воскресенье, он должен проповедовать на всенощной о Воскресении Господнем, чем всегда и завершаются пасхальные проповеди.
— Ну и что? — отпарировала старая дева, которая была упряма, о чем явственно свидетельствовали и ее нормандский выговор, от которого она доныне не отвыкла, и нормандский чепчик, который она невозмутимо продолжала носить. — Подумаешь! Я знаю, что говорю. Он ушел всерьез и навсегда. Утром его не было в церкви — это мне причетник сказал: прибегает запыхавшись и спрашивает, где отец Рикюльф, а то там целая куча в его исповедальню на исповедь к завтрашнему дню ломится. А мне что отвечать? На рассвете я видела, как он спускался по большой лестнице: капюшон опущен, в руке походная клюка, которую он обычно у себя в комнате за дверью оставлял. Он прошел мимо меня, прямой как палка, и хоть я шла вверх, а он вниз, даже словечка учтивого мне не сказал. И глаза у него были опущены, а я так полагаю, что они у него похуже, когда опущены, чем когда подняты. Я удивилась, чего это он с клюкой, — идти-то ему мессу служить всего два шага отсюда, — и повернулась — дай, думаю, посмотрю, как он спускается, а потом следом и сама до дверей спустилась: куда это он в такую рань собрался? И тут я увидела, что он направился по дороге, проходящей у подножия Большого распятия. Ручаюсь вам: если он за это время не убавил шагу, он теперь в своих сандалиях далеконько отсюда.
— Немыслимо! — запротестовала г-жа де Фержоль. — Ушел!
— Как дым с моей кухни, — перебила Агата. — И так же бесшумно.
Это была правда. Капуцин действительно исчез. Но ни г-жа де Фержоль, ни старая Агата не знали, что у капуцинов в обычае незаметно покидать дом, где им оказали гостеприимство. Они уходят, как приходят Смерть и Иисус Христос. А те приходят, как тать ночью. [414] Еванг., 2 Петр., 3, 10.
— говорит Священное писание. И уходят, как тать ночью. Когда утром входишь к ним в комнату, кажется, что они испарились. Это их обычай, и в этом их поэзия! Разве не сказал о них Шатобриан. знавший толк в последней: «На другой день их искали повсюду, но они исчезли, как те святые видения, которые посещают иногда достойного человека в его жилище»? [415] «Гений христианства», IV, кн. III. гл. VI (1802).
Однако в пору, когда начинается наша история, не было еще ни Шатобриана, ни «Гения христианства», и дамы де Фержоль до сих пор принимали у себя братию лишь из менее поэтических и суровых монашеских орденов, которые за пределами церкви оказывались вполне светскими людьми и, уходя из домов, где были приняты, проявляли подобающую учтивость.
Впрочем, дамы де Фержоль отнюдь не прониклись к отцу Рикюльфу столь сильным благоволением, чтобы, как Агата, оскорбиться его молчанием и нежданным уходом. Ушел? Ну и бог с ним. Все время пребывания в доме он скорее стеснял их, чем был им приятен. Долго огорчаться они, во всяком случае, не намеревались. Исчез — и не стоит больше о нем думать. Зато старую Агату это задело куда сильнее. Ей отец Рикюльф внушал то необъяснимое и безотчетное чувство, которое зовется антипатией.
— Наконец-то мы от него избавились! — брякнула она, хотя тут же спохватилась: — Может, я и не права, что так отзываюсь о божьем человеке, только, Святая Агата, ничего поделать с собой не могу. Ничего он мне не сделал, а мне все равно дурные мысли насчет его капюшона в голову лезут. Эх, почему он не такой, как те проповедники, что гостили у нас в прошлые года, — душевные, апостольские, ласковые к бедному люду! Помните, сударыня, приора премонстрантов два года назад? Уж до чего был кроткий да душевный! Весь в белом, вплоть до башмаков, что твоя новобрачная. Рядом с ним отец Рикюльф в своей выгоревшей рясе — все равно что волк рядом с ягненком.
— Ни о ком не следует думать дурно, Агата, — отозвалась г-жа де Фержоль для очистки совести: порицая старую служанку, она, как женщина набожная, порицала и самое себя. — Отец Рикюльф, священнослужитель и монах, наделен и верой, и силой убеждения; за все время, что он живет у нас, мы не усмотрели ни в его речах, ни в поведении ничего, что можно бы истолковать ему во вред. Поэтому у тебя, Агата, нет никаких оснований отзываться о нем дурно. Так ведь, Ластени?
— Совершенно верно, матушка! — поддержала дочь своим чистым голосом. — Но не надо бранить и Агату. Мы же столько раз говорили между собой, что в отце Рикюльфе есть что-то неуловимо тревожное. Откуда это происходит? Не думаешь о человеке плохо, а все-таки ему не доверяешь. Вы, матушка, как и я, не пошли к нему исповедоваться, а ведь вы такая сильная и рассудительная!
— И может быть, обе были не правы! — ответила суровая женщина, чей янсенизм по-прежнему докучал ее совести своими советами. — Нам лучше было бы перебороть себя: ведь прислушиваться к ничем не подкрепленным чувствам, которые не давали нам склонить перед ним колени, это уже означает приговор в глубине души, выносить который мы не правомочны.
— Ах, я никогда не смогла бы поступить так, матушка! — простодушно призналась девушка. — Этот человек всегда вселял в меня страх, который я не в силах была преодолеть.
— У него только и речи что про ад! Вечно один ад на языке! — разволновалась Агата, словно ей хотелось оправдать тот страх, что отец Рикюльф внушал Ластени. — Никогда я столько проповедей про ад не слышала. Он нас всех осуждал. Много лет назад знавала я в родных краях у валоньских августинцев одного священника — его все звали отец Любовь, потому как ни о чем другом, как о любви Господней и о рае, он не говорил. Но, Святая Агата, уж отца-то Рикюльфа никто таким именем не назовет.
— Полно! Замолчи! — прикрикнула г-жа де Фержоль, которой хотелось положить конец разговору: он оскорблял милосердие. — Ведь если отец Рикюльф вернется, а я не могу поверить, чтобы он ушел в канун Пасхи, он застанет нас за болтовней о нем, а это не пристало. Словом, так! Раз ты говоришь, Агата, что он не у себя, поднимись к нему в комнату: может быть, он оставил где-нибудь свой требник, и это докажет нам, что он не ушел.
Мать и дочь остались одни. Агата немедленно отправилась с поручением, данным ей хозяйкой. Больше они не добавили ни слова о загадочном капуцине, о котором им нечего было сказать, а слишком много думать — боязно, и они неторопливо принялись за прерванную работу. Какое простое и мирное зрелище представляли собой две эти женщины в высоком и просторном зале, окруженные со всех сторон кипами чистого белья, которое, по словам Агаты, «так вкусно пахло», распространяя вокруг свежий аромат росы и живых изгородей, где его сушили: оно таило этот аромат, словно душу, в своих складках. Женщины были молчаливы, но внимательны к тому, что делали, время от времени расправляя загнувшийся край, причем каждая вытягивала руку до половины неправильной складки и, устраняя ее, прихлопывала по ней прекрасной рукой — одна белой, другая розовой. Розовой была рука дочери, белой — матери. Каждую в целом, как и руки их, отмечал свой тип красоты. Ластени (этот ландыш) была восхитительна в темно-зеленом платье, обвивавшемся вокруг нее, как листья вокруг белого цветка и его меланхолической головки, меланхолию которой подчеркивали пепельные волосы, потому что пепел — примета скорби: в старину, в дни скорби, им посыпали голову; не уступала ей и г-жа де Фержоль, в черном платье, суровом вдовьем чепце и с висками, приподнятыми обильным слоем белил над копной темных волос с мазками гуаши, наложенными не столько годами, сколько горем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: