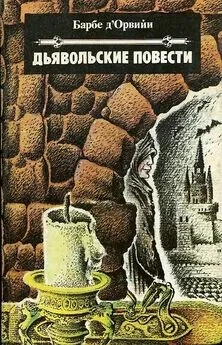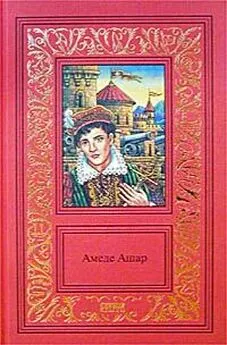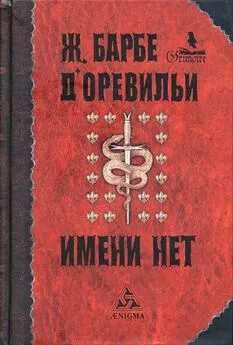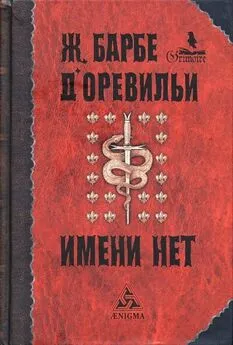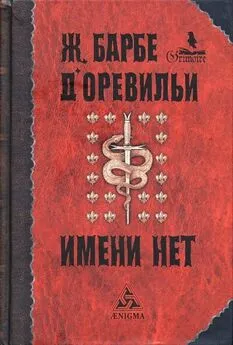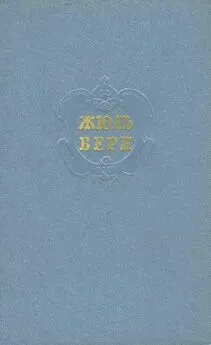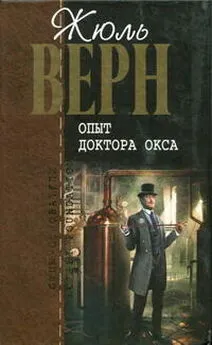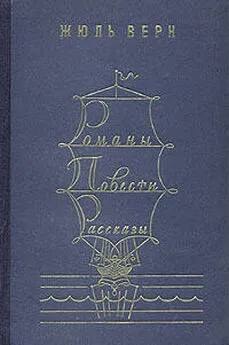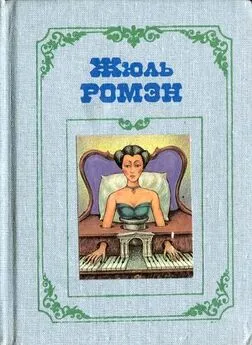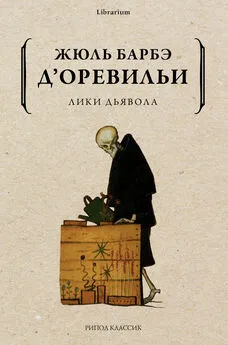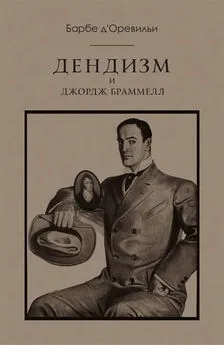Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести
- Название:Дьявольские повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Лениздат»
- Год:1993
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-289-01318-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Дьявольские повести краткое содержание
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.
В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.
Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи». Так более правильно с точки зрения устоявшейся транскрипции французских имен (d'Aurevilly), опирающуюся более на написание, чем на реальное произношение, и подтверждено авторитетом М. Волошина, который явно лучше современных переводчиков знал и русский и французский языки. Тем более, что эта транскрипция более привычна русскому читателю (сб. «Святая ночь», М., Изд-во политической литературы, 1991; «Литературная энциклопедия» и т. д.).
Amfortas
Дьявольские повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но радость ее была еще более жестокой. Приняв дитя, она показала его матери.
— Вот ваше преступление и воздаяние за него. Ластени посмотрела на ребенка столь же мертвыми, как он, глазами, и все ее изнемогшее тело затрепетало.
— Он счастливей меня, — только и произнесла она, пока баронесса следила за ее лицом, надеясь прочесть там чувство, которого, к удивлению своему, так и не обнаружила. Она искала в чертах дочери проблеск нежности и прочла в них лишь отвращение, безграничное отвращение, всегда теперь присущее Ластени, словно судьба навсегда приговорила ее к нему. Она, баронесса де Фержоль, страстная женщина, любившая — и какой любовью! — человека, который взял ее в жены, не прочла на этом изборожденном слезами лице того, что все объясняет и все оправдывает, — любви! Она бессознательно рассчитывала на последний момент разрешения от бремени, когда по долгу материнства выполняла обязанности повитухи при собственной дочери, чтобы утрата Ластени девственности осталась тайной между ними двумя и Богом, а теперь ей приходилось отказаться от надежды на последний свет, который мог пролиться в душевную тьму Ластени. Этот чаемый ею свет унес при тайных родах ребенка без отца. В тот же час этой зловещей ночи, переживания которой г-жа де Фержоль запомнит навсегда, в мире, конечно, множество счастливиц разрешилось от тягости живыми детьми, плодами разделенной любви, падавшими из облегченного материнского лона в объятия сходящего с ума от радости и гордости отца. Но была ли среди женщин хоть одна, чья участь сравнилась бы с участью Ластени, вокруг которой ночь, страх и смерть сгустили свой тройной мрак, чтобы навеки скрыть безымянное дитя этой безымянной истории?
И ночь, долгая мрачная ночь неизбывной тревоги, не кончилась для г-жи де Фержоль. От скольких новых опасений ей еще придется задыхаться? Дитя родилось мертвым — пусть это ужасно, но это счастье! А труп?.. Что делать с трупом, последней уликой против грешной Ластени? Куда его деть? Как стереть последний след позора, чтобы уничтожить воспоминание о нем повсюду, кроме двух их душ?.. Баронесса думала об этом, и ей было страшно своих мыслей. Но она оставалась истой нормандкой, дочерью героического племени. Как ни Устрашено и надорвано было ее сердце, она повелевала им и, трепеща, делала то, что должна была бы делать, так, как будто сохраняет полное спокойствие. Когда Ластени, как все родильницы, разрешившиеся от бремени, погрузилась в сон, баронесса взяла трупик ребенка и, завернув его в одну из пеленок, сшитых ею в долгие часы молчания рядом с дочерью, так и не нашедшей в себе сил работать над приданым вместе с матерью, вышла из спальни, заперев ее на ключ до своего возвращения, хотя и была уверена, что Ластени не проснется. Необходимость, бронзовоперстая необходимость заставила ее пойти и на этот риск. Она зажгла потайной фонарь, спустилась в сад, где, помнится, видела в уголке стены старую лопату, и у нее достало мужества вырыть этой лопатой в этом уголке могилку для мертвого ребенка, в смерти которого она была неповинна. Она погребла его собственными руками — некогда столь гордая, а ныне столь униженная. Украдкой копая зловещую яму в черноте ночи под звездами, которые видели все, но никогда не скажут об этом, она невольно думала о других детоубийцах, делавших, может быть, в этот час в иных концах мира то, что делала она ночью перед ликом звездного неба.
«Я хороню его так, словно убийца — я», — размышляла она, и ей вспомнилась одна, особенно жестокая, история, которую ей когда-то рассказали. Речь шла о юной семнадцатилетней служанке, которая без посторонней помощи, одна родила ребенка и задушила его, а утром (к тому же в воскресенье, когда она исправно ходила к мессе) положила в набедренный карман юбки и продержала там до конца службы, а возвращаясь из церкви, бросила его под арку давно пребывавшего в руинах моста, благо тот лежал у нее на пути. Воспоминание об этой гнусности неотступно преследовало г-жу де Фержоль. Дрожащая и оледеневшая, словно сама была преступницей, она долго переминалась с ноги на ногу, утаптывая взрыхленную землю над тем, кто мог стать ее внуком, и когда окончательно уверилась, что все следы могилы исчезли, вернулась, бледная от сознания того, насколько случившееся сходно с преступлением, не будучи им, в комнату, где Ластени еще спала. Проснувшись с оцепенением во всем теле, следующим за тяжелыми родовыми муками, та не попросила показать ей мертвого ребенка, произведенного ею на свет. Она, казалось, забыла о нем. Это заставило призадуматься г-жу де Фержоль, которая тоже промолчала: ей хотелось знать, не заговорит ли дочь первой. Но — вещь странная и почти чудовищная! — Ластени не заговорила, она вообще перестала говорить. Не потому ли, что этой милой, когда-то обворожительной девушке недоставало чувства материнства, которое есть корень женского естества, — ведь женщины, даже ставшие жертвой насилия, любят своих детей и оплакивают мертворожденных? Ни в ту ночь, ни в последующие дни она так и не вышла из своей молчаливой апатии. Но слезы все текли по ее изборожденному ими лицу, как текли вот уже целых полгода, хотя новых причин для них не было.
Оправившись после родов, Ластени осталась, включая, пожалуй, даже живот, такой же, какой была во время беременности. Та же подавленность, бледность, оцепенение, погруженность в себя и потерянность в случаях, когда она вдруг опоминалась, та же отупелость и немое безумие! Удар, что нанесла ей мать, не поверив в ее невиновность, и несуразность ее беременности нанесли ей в сердце рану, которая непрестанно кровоточила и от которой она так и не исцелилась.
Баронесса, успокоенная непроницаемостью тайны, окружившей отныне грех дочери, смягчилась и как христианка вспомнила, быть может, христианский завет: «Всякий грех и хула простятся». [431] Еванг., Матф., 12, 31.
Во всяком случае, она не выказывала с дочерью обычной вспыльчивости, которую не способна была унять, несмотря на свой характер и сильный ум. То, что непоправимо, — подобно смерти, а мы приемлем мысль о смерти; но Ластени не приняла мысль о непоправимости своего греха. Та из двух женщин, что была слабее, оказалась более гордой… Отношение Ластени к матери не изменилось. Растоптанный цветок, она не подняла больше своей поруганной головки. Она осталась беспощадна к подобревшей матери. Она оставила в ране тот кинжал, который невозможно вырвать после удара, потому что он словно приваривается к краям раны и зовется обидой. После неизбежного для выздоравливающей пребывания в постели она поднялась на ноги, но по ее изменившемуся лицу, слабости и общей подавленности можно было сделать вывод, что ей вообще не следовало вставать: недуг ее неисцелим и смертелен. Агата, уповавшая все время, пока Ластени лежала в постели, на какой-нибудь — почем знать, может быть, и счастливый — кризис и видя, что любимый родной край, которому она приписывала все чудодейственные свойства, никак не действует на ее «голубку», еще больше укрепилась в своей постоянной мысли, что в Ластени сидит бес, что она одержима, и в конце концов попросила у баронессы дозволения совершить паломничество к гробнице присноблаженного Тома де Бивиля, и г-жа де Фержоль согласилась.
Интервал:
Закладка: