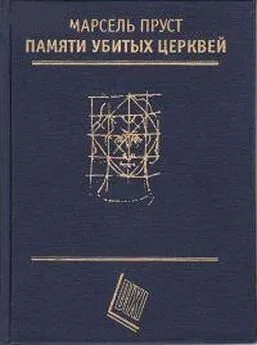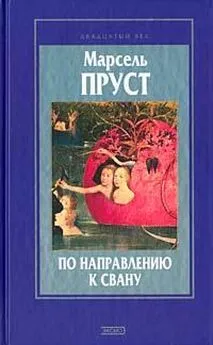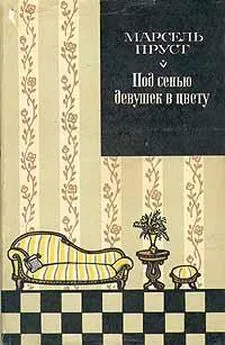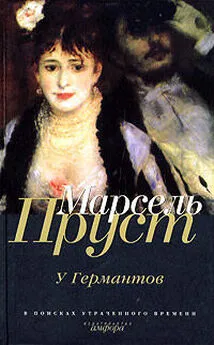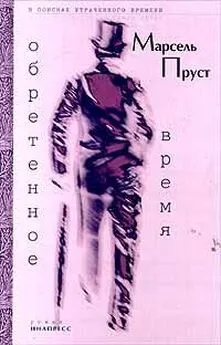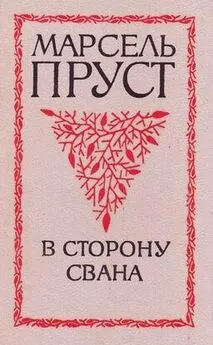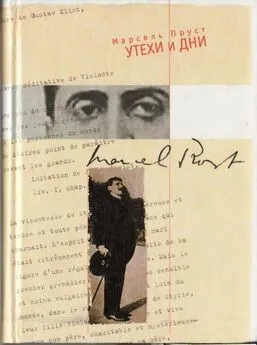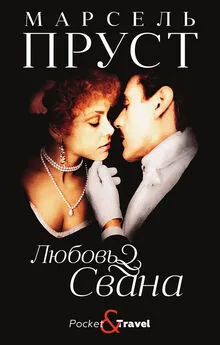Марсель Пруст - Памяти убитых церквей (сборник эссе)
- Название:Памяти убитых церквей (сборник эссе)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Согласие
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-86884-085-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Памяти убитых церквей (сборник эссе) краткое содержание
Собранные в этой книге статьи и очерки известного французского писателя Марселя Пруста впервые публикуются на русском языке. Читателю, знающему Пруста как талантливого, самобытного романиста, предстоит открыть его не менее замечательный дар эссеиста. Поднятая в книге тема — защита памятников культуры, взаимоотношения государства и церкви — актуальна и по сей день.
Памяти убитых церквей (сборник эссе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Примечания
1
Пруст родился в 1871 году и умер в 1922-м; в пору написания данных текстов ему было около тридцати лет; он уже являлся автором ряда эссеистических и критических публикаций и одной книги художественной прозы — «Утехи и дни» (1896).
2
В 1906 г. Пруст выпустил в своем переводе и со своим предисловием еще одну книгу Дж. Рёскина — «Сезам и лилии», лекции о воспитании и образовании мужчин и женщин.
3
Эта тема — постоянная у Рёскина: ср. подзаголовок его ранней книги — «Камни Венеции,для тех немногих, кто еще интересуется камнями»; или же переведенные и цитируемые Прустом замечания в книге «Амьенская Библия» о пресыщенных туристах, равнодушно проезжающих через город с великолепным готическим собором. Культура, по мысли английского писателя, гибнет от того, что общество утрачивает к ней интерес.
4
Джон Рёскин. Искусство и действительность. Избранные страницы. М.: Типография А.И.Мамонтова, 1900. С. 29-30.
5
Справедливости ради отметим, что Гюго тоже не был совсем уж невнимателен к деталям, просто он приписывал им метафизическое, провиденциальное значение. Так, собор Парижской богоматери содержит крохотную по физическим размерам, но чрезвычайно многозначительную деталь, вбирающую в себя весь сюжет одноименного романа Гюго, — греческую надпись на стене: «ананке» («рок»).
6
См. об этом: Gilles Deleuze. Proust et les signes. Paris, P.U.F., 1964.
7
Я не счел, разумеется, возможным воспроизводить в этом томе многочисленные страницы, написанные мною о церквах для «Фигаро», — например, статью «Деревенская церковь» (хотя она, на мой взгляд, лучше многих других описаний, которые вам предстоит здесь прочесть). Те страницы вошли в текст «В поисках утраченного времени»{3}, и я не хочу повторяться. Для этого отрывка я сделал исключение лишь потому, что в книге «По направлению к Свану» он фигурирует не полностью и к тому же в кавычках, как образец того, что я писал в детстве. В четвертом же томе «В поисках утраченного времени» (еще не вышедшем из печати) публикация этого фрагмента в несколько измененном виде газетой «Фигаро» служит темой почти целой главы.
(Здесь и далее примечания автора. — Ред.).
8
Мог ли я думать, когда писал эти строки, что семь или восемь лет спустя этот молодой человек попросит у меня разрешения перепечатать на пишущей машинке мою книгу, будет учиться ремеслу авиатора под именем Mapсель Сван, в котором он дружески соединит мое имя с фамилией одного из моих персонажей, и погибнет двадцати шести лет от роду при катастрофе своего аэроплана где-то в море близ Антиба!
9
Часть этого очерка печаталась в «Меркюр де Франс», предваряя перевод «Амьенской Библии». Мы выражаем глубокую признательность г-ну Альфреду Валлету, директору «Меркюр де Франс», который любезно дал разрешение переиздать в этом томе наше предисловие. Оно было и остается посвященным, в знак восхищения и благодарности, Леону Доде {18} .
10
Вот что пишет г-н Коллингвуд {19} об обстоятельствах, при которых Рёскин написал эту книгу: «Рёскин не был за границей с весны тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, но в августе тысяча восемьсот восьмидесятого вновь почувствовал себя в состоянии путешествовать. Он отправился осматривать церкви на север Франции, объезжая старых знакомых — соборы Абвиля, Амьена, Бове, Шартра, Руана, а затем вместе с Северном и Барабансоном вернулся в Амьен, где и провел большую часть октября. Он писал новую книгу — "Амьенская Библия", — которая должна была стать по отношению к "Семи светочам архитектуры" тем же, чем "Отдых св. Марка" был для "Камней Венеции". Он не чувствовал себя в силах читать лекции для иностранцев в Честерфилде, но 6 ноября 1880 г., навещая давних друзей в Итоне, сделал там доклад об Амьене. Он забыл захватить свои записи, но это не помешало ему выступить с интересной и блестящей лекцией. Она представляла собой первую главу его новой работы "Амьенская Библия", задуманной как первый том исследования «Отцы говорили нам. Очерки по истории христианства <...>»
Отчетливо религиозный тон этого исследования был воспринят как проявление если не перемены авторских воззрений, то, во всяком случае, как очевидное развитие определенной тенденции, с некоторых пор заметно усилившейся у Рёскина. От стадии сомнения он перешел к признанию могучего и благотворного влияния глубокой веры: со своей теперешней позиции, ни на йоту не отступаясь от того, что было им некогда высказано против окостенелых верований и противоречивых упражнений в набожности, он, не выстраивая никакой определенной доктрины относительно будущей жизни и не принимая для себя догмы ни одной из сект, рассматривает богобоязненность и откровение Святого Духа как важнейшие факторы и побудительные причины, которые нельзя упускать из виду при изучении истории, ибо они суть основы цивилизации и проводники прогресса». (Коллингвуд. «Жизнь и труды Джона Рёскина». II, с. 206 и далее). Что касается подзаголовка «Амьенской Библии», о котором напоминает г-н Коллингвуд («Очерки по истории христианства для мальчиков и девочек, которых держали над купелью»), я хочу обратить ваше внимание на то, как он похож на другие подзаголовки Рёскина, например на подзаголовок «Флорентийских утр» («Простые этюды по христианскому искусству для путешествующих англичан») или еще больше на подзаголовок «Отдыха св. Марка» («История Венеции для редких путешественников, которые еще интересуются памятниками»).
11
Сердце Шелли, вырванное из пламени Хантом {21} на глазах у лорда Байрона во время сожжения тела. Г-н Андре Лебе (автор одного из сонетов на смерть Шелли) сделал для меня по этому поводу интересное уточнение. По его утверждению, не Хант, а Трелоуни вырвал из огня сердце Шелли, причем сильно обжег руку. Я сожалею, что не могу опубликовать здесь любопытнейшее письмо г-н Лебе. Оно в точности воспроизводит следующий отрывок из воспоминаний Трелоуни: «Байрон попросил меня сохранить для него череп Шелли, но, вспомнив, что он уже превратил один череп в кубок для питья {22} , я не захотел, чтобы череп Шелли подвергся подобному осквернению». Накануне, когда происходило опознание тела Уильямса, Байрон сказал Трелоуни: «Дайте мне взглянуть на челюсть, я могу по зубам узнать человека, с которым мне приходилось беседовать». Однако, придерживаясь рассказа Трелоуни и не принимая за чистую монету бессердечие, которое Чайльд Гарольд охотно демонстрирует перед Корсаром, надо вспомнить, что несколькими строками ниже Трелоуни, повествуя о сожжении тела Шелли, сообщает: «Байрон не смог выдержать этого зрелища и вплавь добрался до "Боливара"».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: