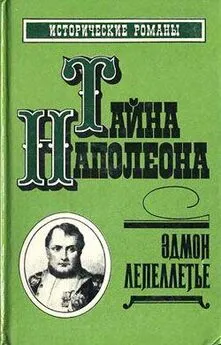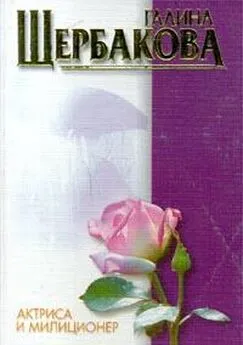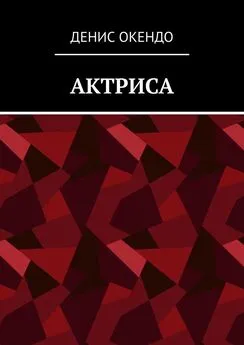Эдмон Гонкур - Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен
- Название:Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдмон Гонкур - Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен краткое содержание
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так этим людям, вечно кочующим по дорогам, в различные времена года, по самым разнообразным местностям, дано было всегда видеть перед собой простор, всегда находиться под лучезарным светом небес, всегда вдыхать свежий воздух и ветер, только что промчавшийся над сеном и вереском, — и опьяняться и утром и вечером вечно новым зрелищем зорь и закатов; и услаждать свой слух невнятным шумом земли, гармоничными вздохами лесных сводов, свистящими переливами ветерка в колеблемых тростниках; и погружаться с терпкой радостью в ненастье, в ураганы, в бури, в неистовства и битвы стихий; и есть где-нибудь под изгородью; и пить из свежих источников; и отдыхать в высокой траве под пенье птиц, летающих над головой; и зарываться лицом в цветы и вдыхать благовоние диких растений, разгоряченных полуденным зноем; и забавляться лесным или полевым зверьком, на миг зажатым в руке; и зазеваться, как говорил Шатобриан, на голубеющие дали; и позабавиться солнечным бликом, играющим на зайце в то время, когда он станет свечкой на задние лапки в полевой борозде; и беседовать с грустью осеннего леса, шурша опавшими листьями; и погружаться в нежное оцепенение мечтательного одиночества, в смутное и длительное опьянение первобытного человека, находящегося в непрерывном любовном общении с природой; словом, всеми органами восприятия, всеми, так сказать, порами проникаться тем, что Лист зовет цыганским мироощущением.
XIII
Иногда Степанида, словно дикий зверь, прячущий своего уже подросшего детеныша, внезапно подхватывала сынишку, прижимала его к груди и убегала с ним в уединенный уголок, зарываясь в лесную чащу, и там, защищенная стеною из веток и листвы, еле переводя дух, опускала его на траву. Вдали от всех, в этом природном тайнике, она становилась на колени перед лежащим Нелло и, опершись руками о землю, все еще тяжело дыша и изогнув тело, как самка над детенышем, смотрела на него странным взглядом, смущавшим малыша, который, как ни старался, не мог ничего понять. Тогда с губ матери, еле прикасавшихся к лобику младшего сына, медленно, как журчащее причитание, слетали слова:
Бедная любимая крошка!
Бедная ненаглядная крошка!
Бедное крохотное сердечко!
. . . .
. . . .
И долго звучали в шелестящей тишине и безмолвии эти ласковые восклицания, превращаясь в своеобразный грустный напев, в котором словно изливалось разбитое сердце. И беспрестанно звучало слово «бедный», слово, которое матери и возлюбленные из несчастного цыганского племени, вечно опасающиеся за будущее своих любимцев, неизменно присоединяют к ласковым уменьшительным именам.
XIV
Давно, уже очень давно молодая мать Нелло стала чахнуть. Что за недуг был у нее? Этого никто не знал. Возможно, то была болезнь растений, пересаженных в чужую землю, под небо, где им не суждено дожить до старости. Впрочем, молодая цыганка ни на что, кроме холода, не жаловалась; холод пронизывал ее до мозга костей, и она не могла его ничем разогнать; даже летом, как ни куталась она в шали, она ощущала внезапную нервную дрожь. Тщетно готовила ей Битая навары из трав, собранных по дорогам, уверяя, что от них ей станет теплей; тщетно пытался муж водить ее к лекарям тех городков, где труппа давала представления, — она от всего отказывалась с глухим ворчливым раздражением и продолжала участвовать в общих трудах, а сама все бледнела, и глаза ее делались все больше.
Однажды у нее не хватило сил высидеть до конца за столиком — кассой балагана. В другой раз она не встала утром, обещая встать завтра. Но она не встала ни завтра, ни в следующие дни. Муж хотел было остановиться на постоялом дворе, чтобы полечить ее, по она воспротивилась этому, сказав «нет» властным движением головы; и тут она стала пальцем чертить на стене повозки — возле того места, где приходилась лежащая на подушке голова, — большой квадрат: очертание окошка.
С этого времени больная, которая уже не вставала и путешествовала лежа в постели, только любовалась пейзажами, видневшимися из окна повозки.
Тихая, безмолвная, она ни слова не говорила своему бедному старому мужу; а он целыми днями сидел возле ее кровати, на старинном сундуке, некогда принадлежавшем римскому прелату, где теперь хранились итальянские пантомимы, и в его печали было нечто придурковатое. Не разговаривала она и с остальными; лишь изредка им удавалось отвлечь на мгновенье ее взор от окошка. Одно только присутствие младшего сына — в те краткие минуты, когда неугомонный и эгоистичный мальчик соглашался спокойно посидеть на табуретке, — могло развеять ее обычную задумчивость. Все время, пока ребенок сидел тут, мать, не прикасаясь к нему и не целуя, смотрела на него, и ее глаза горели испепеляющим огнем.
Окружающие старались чем только можно порадовать больную. Почти каждые два-три дня стирались оконные занавески, чтобы они всегда были чистые; для нее собирали в лесах и лугах полевые цветы, которые она любила держать в графине у своего изголовья; труппа в складчину подарила ей красивое пуховое одеяло, — легкое и теплое; это пунцовое шелковое одеяло — единственная вещь, за которую она поблагодарила с выражением простодушного счастья, слабо озарившего ее мраморное лицо.
Повозка все кочевала по стране, везя слабеющую женщину с места на место; теперь голова больной то и дело скатывалась с подушки, и ее приходилось перекладывать ближе к оконцу.
Однажды в полдень цыганке стало так плохо, что старик велел распрячь лошадей, и труппа уже начала было располагаться в поле, но путница, почувствовав, что движение остановилось, произнесла на своем родном языке, на языке romany [45] romany — Цыганском.
, односложное и свистящее, как звук бича: «Вперед!» И она беспрестанно повторяла это слово, пока опять не заложили лошадей.
После этого цыганка еще несколько дней лежала, упрямо отвернувшись к стене, а неподвижный и в то же время расплывчатый взгляд ее был прикован к окну, к убегающим видам, теряющимся вдали, исчезающим в тумане и колеблющимся от тряски повозки по ухабам.
Взор умирающей, уже помутившийся, не мог расстаться с густыми лесами, с бесконечными равнинами, с холмами, залитыми солнцем, с зеленью деревьев и подвижной синевой рек; взор ее не мог оторваться от чистых сияний, струящихся с небес на землю, от света, сверкающего за стенами жилищ… ибо это была та самая женщина, которая однажды на суде отвернулась от распятия и, подойдя к раскрытому окну, сказала: «Клянусь светом, сияющим меж небом и землей, что открою свое сердце и скажу всю правду». И, умирая, она желала, чтобы до самого конца ее кочевого существования над ней сиял этот свет, разлитый меж небом и землей.
Однажды утром Маренготта остановилась в Бри, возле церковки, у которой перестраивали боковые приделы. В лучах восходящего солнца перед повозкой блестели, как декоративная ниша, уцелевшие старинные хоры, оклеенные золотой бумагой. На лесах, возвышавшихся над остатками древних могил, мелькали рыжеватые, испачканные известкой головы каменщиков; тут же расхаживал, подпрыгивая, освещенный лучами утренней зари долговязый кюре в круглой шляпе, обвитой крепом, и в длинной-предлинной черной сутане, побелевшей возле карманов, — с лицом, не бритым целую неделю и казавшимся грязным, с острым носом и ясными, зоркими глазами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: