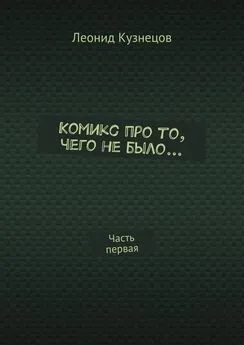Зинаида Гиппиус - Чего не было и что было
- Название:Чего не было и что было
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Росток
- Год:2002
- ISBN:5-94668-010-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зинаида Гиппиус - Чего не было и что было краткое содержание
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Чего не было и что было - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он, к счастью, всего этого не сознавал, хотя, вероятно, чуял порою. Теснее прежнего прилепился к своей «Книге» (она только у него и оставалась!), старательнее прежнего за ней «ухаживал». Постоянно говорил о ней и тотчас посылал на прочтение всякому, выразившему к тому охоту. Мне — он сам читал отрывки о революции, о Плеве и Столыпине. И хотя начинаются они обычной его, полукокетливой, фразой: «Политика никогда не захватывала меня, я всегда смотрел на правительство, как на прислугу, оберегающую спокойствие жителей…» — надо сказать, что очерки эти написаны не без проникновения, а страницы о Столыпине прямо блестящи. В то время Столыпин и его роль понимались грубее, да, пожалуй, и до сих пор как следует не понимаются. Быть может, нарисовать такой ясный образ «работника на будущую революцию», и нарисовать с таким чувством меры, помогла Андреевскому именно его оторванность, взгляд совсем «со стороны».
Чем дальше, тем больше уходил он в «свою сторону». Или жизнь уходила у него из-под ног, а он, сам почти не замечая, тихо «свертывался» внутрь. Мы как-то о современности уж и не говорили, а все о прошлом: о недавней литературе, о недавней Маделене…
Судьба продолжала быть к нему суровой. Мало знаю о Деловой его жизни в этот период, но, кажется, он сам стал уклоняться от дел: адвокатура уже не захватывала его, не было пре-жней нервной энергии. Домашняя жизнь не грела, семья расползлась… Наконец, после длительной болезни и смерти жены, с°всем ослабел, совсем «свернулся внутрь».
Но ему хотелось еще быть, для меня и для себя, прежним Андреевским, баловником, остроумным капризником. Еще приходил ко мне «на 17 минут» (после долгих переговоров по телефону). Побелевший, немного ссутулившийся, но изящный, выбритый, в том же pince-nez на черном шнурке, садился в непривычное кресло… нет! было уютнее в старом, милом доме Мурузи, веселее там говорилось о себе… Сделался болтлив; уж не рассказывал, а болтал. Вдруг, с житейского, перескочит на «религию»: упрямо повторяет то же самое, стараясь его лучше, или «красивее», выразить… Плохо удавалось. Не удалась ему и в «Книге» последняя часть, так и озаглавленная «Религия». Вслух он мне ее никогда не читал.
Весенний, солнечный день. Ласковый, тепло-жаркий, — такие бывают в Петербурге. Деревья пушистые, чуть-чуть. Мы условились с Андреевским: я сегодня пойду к нему.
Какая это весна? Какого года? Я твердо знаю, что 1918, но чем больше стараюсь восстановить в памяти это свиданье, тем больше сомневаюсь. Вопреки очевидностям, гадаю: а вдруг был 16-й год? Или 14-й?
Дело в том, что наше свиданье было совершенно вне времени, почти вне пространства. Такое точно могло быть в любом году: большевицком, военном и довоенном, одинаково.
Больше двадцати пяти лет Андреевский прожил все на той же самой квартире, на Знаменской, 35. Мне там бывать приходилось, — всегда летом или весной, когда семья уезжала и он оставался один. Иду по знакомой, пологой лестнице в четвертый этаж. Вот, из передней, и широкая, вся в солнце, гостиная, и чехлы на мебели, и громадный портрет Делэра… И угловой, с фонариком, кабинет, широкие диваны, и фотографии на письменном столе. Так же заперты окна у зябкого хозяина, и так же светло смеется солнце сквозь стекла… Только хозяин теперь не на время здесь остался один, а навсегда.
Прожить в буквальном смысле один — этот старый ребенок не сумел бы, конечно, и дня. За ним самоотверженно ухаживает какая-то бывшая не то гувернантка, не то бонна семьи —
«фрейлейн». Это благодаря ей так, до сих пор, еще все «по-прежнему». Это она покрыла, в солнечной столовой, белой скатертью стол и приготовила «угощение».
Мы говорим… просто болтаем. Удивительно: и мне начинает казаться, что ничего не случилось, что все — прежнее. Вижу белые волосы Андреевского — и не вижу: слышу его детский смех и, минутами, почти искренно, чувствую и свое ребячество. Загадка жизни и смерти? да, мы о ней не забываем; но ведь мы и тогда, — в словах ли, в молчании ли, — о ней помнили…
Самое яркое, что осталось у меня от этого дня: солнечный луч в желтом золоте вина. Друг мой налил его (фрейлейн сберегла!) в две широкие рюмки, мне и себе:
— Знаете, какой сегодня праздник? Сегодня Духов день! Давайте сегодня выпьем, наконец, на «ты». Уж давно пора!
И мы пьем, и целуемся, — да, пора и на «ты» перейти. Какое светлое в солнце вино. И как оно мне запомнилось!
Убеждаю выйти на балкон, в гостиной открывается. «Сер-жинька» надевает пальто, шапку — а почти жара! и мы выходим. Он даже приносит стулья. Но мне пора домой.
— Я увижу отсюда, как ты пойдешь. Смотри, обернись! А какая пустыня…
Внизу, действительно, пустыня (конечно, это был 18-й год!). Ничего праздничного. Праздник только вверху, в небе, — в солнце, в весне.
— Не забудь же Духова дня! Не забудь обернуться! Медленно иду по улице, останавливаюсь, оборачиваюсь, и
все вижу, высоко, маленький черный комочек за перилами балкона.
Ну как же забыть Духов день? Это было наше последнее свиданье.
Месяцы перед кончиной были очень тяжелы. Чтобы кориться, прежняя бонна распродавала, понемногу, все. С вели-Чайшими усилиями и хлопотами сохраняли квартиру Андреевского, чтобы не трогать его с места. Он всему не то покорялся, не то мало замечал происходившее вокруг. Мне кажется, его рассеянность возросла необыкновенно; все дальше свертывался внутрь, внешне же это делало его одиноко скучающим ребенком. От детской скуки, верно, и стал ходить, с фрейлейн, в кинематограф. Более неподходящих для этого времен и вообразить нельзя: постоянные облавы. В одну из таких облав попал Андреевский. Морозной ночью, на грузовике, повезли куда-то, где, на полу, он провел ночь.
Воспаление легких, с немедленным беспамятством. Страдал он ужасно. Младшая дочь (она неожиданно оказалась в Петербурге и присутствовала при его последних днях) рассказывала мне потом: «Я стояла на коленях у его изголовья и молилась только об одном: чтобы он скорее умер».
Если б сам он, в своей Книге, писал «о смерти С. А. Андреевского» (как шутил иногда), он, верно, кончил бы тем же безответным вопросом: «За что?». Хочется повторить его и мне… Но лучше вспомнить из Книги несколько слов — не рассуждающих, неожиданных, вырвавшихся как вздох: «Но после долгих терзаний, в конце концов, я чувствую, что, со смертью, мы отходим к Богу, под его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет — и под него укроемся… Да будет!».
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
В отделе художественной прозы последний номер «Современных Записок» принес новый рассказ И. А. Бунина «Дело корнета Елагина», — а в отделе литературной критики — статью Ф. А. Степуна, посвященную анализу «Митиной любви». Очень спорна статья Степуна, но по теме своей она отнюдь не неуместна в данной именно книге. «Митина любовь» как-то связана с новой вещью Бунина, связью трудно уловимой, но ясно чувствуемой, — словно сильный, богатый аккорд, подхваченный на излете новой затейливой вариацией: «Митина любовь» — произведение целестремительное и на редкость четкое; сколько бы споров оно ни возбуждало, все сомнения относятся как будто лишь к постановке проблемы, но решение при данной постановке возможно только одно. Напротив, «Корнет Елагин» — вещь сознательно усложненная, извилистая, вплоть до особенностей внешнего построения. Один и тот же мотив — любви и смерти — звучит в обоих рассказах. Митя убил себя, потому что любил Катю. Корнет Елагин убивает артистку Со-сновскую, потому что любит ее. В обоих случаях переход от любви к смерти с художественной стороны одинаково убедителен. Но в «Митиной любви» он психологически объяснен с почти исчерпывающей ясностью, тогда как мотивы, определяющие поведение Елагина, чрезвычайно запутаны и не раскрыты до конца. О них возможны разные догадки. Но таково обаяние истинного таланта, что эти зигзаги привлекают читателя с не меньшей силой, чем прямые и острые линии психологического рисунка в «Митиной любви».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
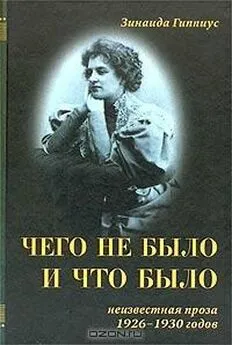

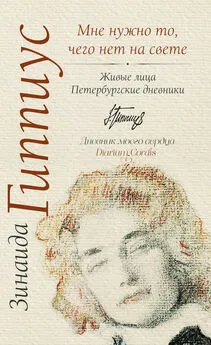
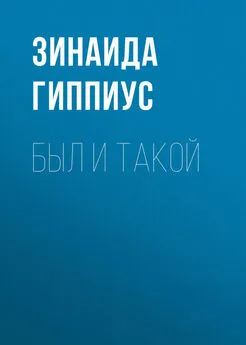
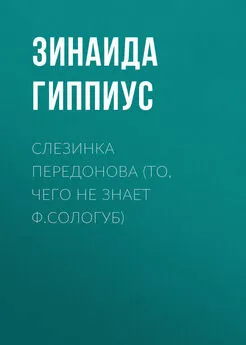
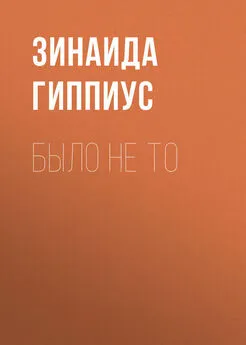
![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/1080510/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k.webp)