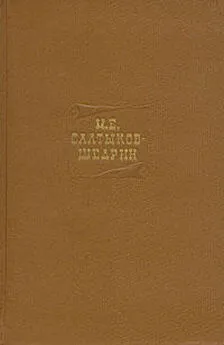Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи
- Название:Том 11. Благонамеренные речи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемлет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации пореформенной России, и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года, и состояние народных нравов, и повседневный, обывательский провинциальный быт.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 11. Благонамеренные речи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Характеру Тебенькова, рельефно очерченному уже в очерке «По части женского вопроса», в очерке, названном «В дружеском кругу», отведена в известной мере служебная роль: его «западничеством» поверяется миросозерцание «почвенника» Плешивцева — главного героя очерка, «человека, всего сотканного из пламени» словоизвержений о « патриотизме », считавшемся одним из «краеугольных камней», одним из «алтарей» охранительной идеологии.
В целях выяснения истинной «подоплеки» фразеологии Плешивцева о «почве», «отчизне» и «народолюбии» Салтыков сопоставляет его систему фраз с многоглаголанием Тебенькова и подводит читателя к выводу: несмотря на их споры и пререкания «à cheval sur les principes», то есть «принципиального» характера, оба они одинаково «благонамеренные люди», оба — «консерваторы» и «охранители», опирающиеся на «одни и те же краеуголь ные камни». При всем пламенном поклонении «почве», понятие «отечества» для либерально-консервативной идеологии, так же как и для позднего русского славянофильства, стало синонимом самодержавно-крепостнического государства. Вот почему «столп современного российского либерализма» Тебеньков имеет полное право сказать «столпу» отечественного славянофильства Плешивцеву: «В сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся <���…> Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем — во имя ли принципов «порядка» или во имя «жизни духа» — право, это еще не суть важно <���…> Тебе по сердцу «просветление», мне — «административное воздействие», но и в том и в другом случае в конце концов все-таки прозревается военная экзекуция».
Так обстоит дело еще с одним «краеугольным камнем» и «алтарем» — с идеей охранительного патриотизма, «любовью к отечеству». Этот «алтарь» опять-таки оказывается «призраком», фикцией, не только потому, что он ежечасно попирается его радетелями (вспомним «Тяжелый год»), по и потому, что чувство патриотизма полностью узурпировано «государственным союзом» и превращено в «административное подспорье». Вот почему, свидетельствует Салтыков, слова «отечество» и «государство» в департаментах «употреблялись <���…> безразлично <���…> чередовались друг с другом в видах избежания частых повторений одного и того же слова».
Следует подчеркнуть, что «призраком», фикцией для Салтыкова является лишь государственно-великодержавный, охранительно-шовинистический, националистический «квасной», или слепо-фанатический, «патриотизм», то есть те формы «любви к отечеству», которые возводят в «перл творения» любые недостатки и несообразности в жизни страны и всегда служат оправданием застоя, консерватизма, реакции. Подоплека подобного «патриотизма», сатирическим выразителем которого является Плешивцев, полагающий, что «для патриотизма нет лучшего помещения, как невежественный и полудикий чебоксарец», выражена в очерке «Привет», где три представителя «русской культурности», три «патриота отечества» Курицын, Спальников и Постельников, следуют из-за границы в свои родные города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий. Патриотизм их сводится, с одной стороны, к гастрономическому рефрену: «У нас ли еда или за границей?», а с другой стороны — к апологетическим декларациям по поводу «порядка», который царит в отечестве: «Будь в страхе! оглядывайся! <���…> Коли по правде-то говорить, так ведь это-то настоящая свобода и есть!»
Такое «отечество» вызывает у Салтыкова неиссякаемое страдание и боль. «Меня охватывала беспредметная тоска, желание метаться, биться головой об стену. Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы, — раб, — раскрывает он в очерке «Привет» состояние мыслящего русского человека, возвращающегося из-за границы на родину. — Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишком долгое время чувствовал себя чужим среди чужих и потому отвык болеть. Но нам это необходимо, нам нужна ноющая сердечная боль, и покамест это все-таки лучший (самый честный) modus vivendi из всех, который предлагает нам действительность».
Таков патриотизм Салтыкова, просветителя и демократа, «самый честный» патриотизм, который в условиях самодержавно-крепостнической России оборачивался болью за народ и отчизну, ненавистью к самодержавию.
В статье «В погоню за идеалами», где Салтыковым подводятся итоги исследования «государственного союза», с предельной ясностью обнажено противоречие между самодержавием и Россией, между государством и народом. Даже представители «дирижирующих классов», и те, отмечает Салтыков, смешивают государство одни — «с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством». Представители «дирижирующих классов» «на каждом шагу самым несомненным образом попирают идею государственности». Но не этот факт является, на взгляд Салтыкова, решающим свидетельством «призрачности» данной идеи. «Отношение масс к известной идее — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности». Равнодушие масс к «государственному союзу» настолько глубоко и всеобъемлюще, что «трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово «государство».
Индифферентное, а то и враждебное отношение масс к «государственному союзу» характерно, по утверждению Салтыкова, не только для самодержавной России, но и для более свободной, казалось бы, буржуазно-парламентарной Европы, для эксплуататорского государства вообще. Суть парламентаризма заключается, по прозорливому замечанию Салтыкова, «в уловлении масс», в «вящем утучнении и без того тучного буржуа».
Разоблачение буржуазного государства в «Благонамеренных речах» служит, в конечном счете, и ответу на главенствующий вопрос о сущности «государственного союза» современной ему России. Не имея цензурной возможности до конца высказаться о социальной природе Российского государства, писатель обращается к республиканской Франции, стране несравненно более демократической, чем царская Россия. И оказывается, что государство там находится «на откупу у буржуазии», более того, является «единственным убежищем» буржуа против «разнузданности страстей», поскольку «ограждает его собственность», «охраняет его предприятия против завистливых притязаний одичалых масс и, в случае надобности, встанет за него горой».
Комплекс идей о природе собственнического, буржуазного государства, выраженный Салтыковым в статье «В погоню за идеалами», является результатом многолетнего осмысления им этой проблемы. В письме к Некрасову от 1/13 апреля 1876 года, препровождая «В погоню за идеалами» в редакцию «Отеч. записок», Салтыков оговаривался, что статья эта «не вполне цензурна по сюжету», и сообщал: «…Я написал ее, потому что так было нужно по ходу моих идей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: