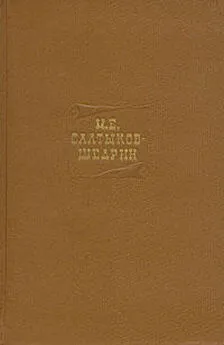Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи
- Название:Том 11. Благонамеренные речи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемлет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации пореформенной России, и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года, и состояние народных нравов, и повседневный, обывательский провинциальный быт.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 11. Благонамеренные речи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Благонамеренные речи» были посвящены художественному исследованию реальной сути этих «союзов», декларируемых официальной идеологией в качестве «краеугольных камней» русского общества.
В очерках «Отец и сын», «По части женского вопроса», «Семейное счастье», «Еще переписка», «Непочтительный Коронат» исследовался прежде всего « семейный союз » в наиболее типичных и характерных формах его существования в условиях пореформенной действительности.
В очерках «Охранители», «Переписка», «В дружеском кругу», «Тяжелый год», «В погоню за идеалами», «Привет» главное — анализ союза « гражданского » и « государственного ».
Третье же направление художественного и социального исследования в «Благонамеренных речах», третья — наиболее значительная по объему и по занимаемому месту группа очерков и рассказов — «В дороге», «Опять в дороге», «Столп», «Кандидат в столпы», «Превращение», «Кузина Машенька» — посвящена теме, едва намеченной в творчестве Салтыкова 60-х годов и вышедшей для него на первый план в 70-х: теме собственности [490]. В этом проявилась закономерность времени: принцип собственности к середине 70-х годов становился одним из главных «краеугольных камней» пореформенной России и выявлял себя с исключительно быстро возрастающей очевидностью. Казалось, этот принцип никак не мог быть назван «призраком» — столь реально наполнял он своим содержанием «семейный», «гражданский» и «государственный» союзы, утверждал на практике новую «нравственность» и «мораль», выступал в качестве «столпа» семейственности и государственности, опоры власти, в качестве новоявленного идеала, всеобъемлющей основы жизни. Именно поэтому исследование принципа собственности стало сквозной темой «Благонамеренных речей», которая звучала не только, скажем, в дилогии о Дерунове (очерки «Столп» и «Превращение»), но и в ряде очерков «семейного» цикла («Отец и сын», например), в очерках, посвященных «гражданскому» и «государственному» союзам («Охранители», «Переписка» и др.). Вообще деление на тематические группы очерков в «Благонамеренных речах» в достаточной степени условно, — здесь правильнее говорить о взаимопроникающих тенденциях социальной и нравственной действительности 70-х годов, они вкупе и составляли тот чадящий «идоложертвенный светильник», в котором было скрыто «существо веществ» общественного бытия России 70-х годов.
Чтобы затушить этот светильник и вознести на его место новый, надо, писал Салтыков, войти в его капище «ласково», разузнать доподлинно, кем, когда и по какому случаю возжжен этот светильник, что именно он освещает, и потом, улучивши минуту, задуть его, «ибо в мире сем не одна сущность дела роль играет, но и манера» [491].
В соответствии с этой программой Салтыков разрабатывает художественную манеру «Благонамеренных речей». Он и в самом деле входит в «капище» «ласково» и, на первый взгляд, вполне «благонамеренно», он показывает читателю основы «капища» изнутри, как человек, принадлежащий этим основам и досконально знающий их. «Рассказчик», от лица которого написаны «Благонамеренные речи», всей своей биографией и опытом жизни связан с действительностью, исследуемой в очерках. «Рассказчик» ведет повествование о поездках в родные места по делам своего имения, о впечатлениях, которые он вынес из этих поездок на родину после многолетнего отсутствия, о встречах с людьми давно знакомыми и незнакомыми. Он — здешний помещик и вместе с тем «писатель по сатирической части», известный в тех местах как автор «Благонамеренных речей». Все это заставляло воспринимать «Благонамеренные речи» как достоверный, фактический рассказ о реальных людях и реальных ситуациях, с которыми сталкивался в своих поездках Салтыков. Такое впечатление необходимо было писателю для большей убедительности и неопровержимости того социального исследования современной ему действительности, которое он вел в своих очерках.
Однако документальность «Благонамеренных речей» особого рода: ее надо воспринимать с той существенной поправкой, что «писатель по сатирической части», который в очерках выступает как автор «Благонамеренных речей», от лица которого ведется рассказ, — это и Салтыков, и вместе с тем не Салтыков. Это — « рассказчик », то есть вымышленный персонаж, далеко не идентичный по взглядам и позициям самому Салтыкову, своеобразная литературная маска. Взаимоотношения между Салтыковым и его двойником-рассказчиком вполне определенны и вместе с тем сложны. Сложность здесь — в постоянно меняющейся дистанции между ними: от полного отсутствия таковой, когда облик действительного автора «Благонамеренных речей» и его литературного alter ego сливаются, и тогда словами и интонациями «рассказчика» говорит полным голосом сам писатель, — до полного противостояния, когда рассказчик предельно далек и внутренне враждебен, неприемлем для Салтыкова и сам является объектом его иронии и сатиры. Определенность — в том, что под литературной маской «рассказчика» — то безобидного «фрондера», то «простака», то человека «среднего культурного пошиба», — мы всегда, в любом случае, ощущаем, чувствуем самого Салтыкова, его идейную позицию, его отношение к жизни и «рассказчику» [492].
Фигура «рассказчика» — благонамеренного «русского фрондера», органически принадлежащего социальной действительности, являвшейся объектом исследования и обличения писателя, — и позволяла Салтыкову осветить эту действительность «изнутри». Писатель как бы демонстрирует саморазоблачение современного ему общества, краеугольных основ его. Художественный принцип сатиры Салтыкова — и это характерно для всех очерков книги — в обнажении, а точнее — самообнажении разительного противоречия между видимостью и сущностью, между словом и делом, между внешними формами буржуазно-крепостнической действительности, выдаваемыми за истину, и подлинным содержанием ее. Самые положительные, высокие, «благонамеренные» понятия оказываются не более как системой пустых фраз и ложью. Высокие слова опровергаются, в первую голову, собственными делами тех, кто их произносит, — таков, на взгляд Салтыкова, убийственный парадокс жизни, развивающейся по законам «самоедства». Тогда какой же смысл во всех этих «благонамеренных речах»? А смысл есть, и немалый. «Благонамеренные речи» — средство «обуздания» народа, «обуздания» « простеца ».
В статье «К читателю», открывающей книгу, хотя статья и не является формально введением или предисловием к ней, по существу поставлена сквозная, ведущая проблема «Благонамеренных речей». На обсуждение читателя здесь вынесены три центральных вопроса, неразрывно связанных между собой: вопрос об « обуздании », как естественной, а точнее — противоестественной атмосфере жизни России, вопрос о « лгунах », на которых держится атмосфера «обуздания», и, главный для Салтыкова, вопрос о « простеце », как предмете «обуздания», объекте этой всеобъемлющей, всепроникающей лжи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: