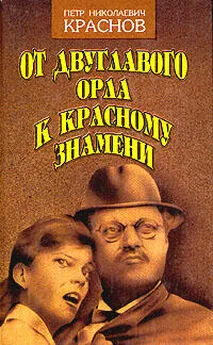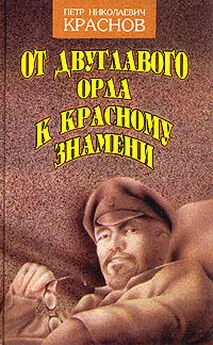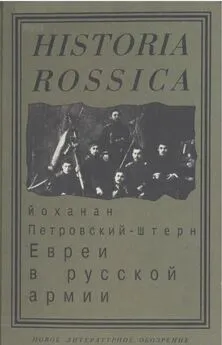Петр Краснов - Памяти Императорской русской армии
- Название:Памяти Императорской русской армии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Айрис-пресс
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Краснов - Памяти Императорской русской армии краткое содержание
Памяти Императорской русской армии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот полк был в тылу у германцев, в конце сентября 1915 года, когда наша отступающая, без патронов и снарядов, армия получила приказание остановиться и короткими ударами заставить немцев прекратить переброску войск на Западный фронт. В эти дни в Ковеле грузилась германская пехотная дивизия. Помещать погрузке было поручено частям IV кавалерийского корпуса, для чего мы должны были прорвать расположение австро-германцев и пройти возможно дальше за Стоход к Ковелю.
В десять часов утра ясного сентябрьского дня мы рысью прошли то место, которое называлось «фронтом», и углубились в тыл. Наше появление было столь неожиданно, что немецкие солдаты, охранявшие в лесу телефонную линию, были захвачены целыми постами. Мы встречали подводы, везшие безоружных немецких солдат, возвращавшихся из отпуска и лазаретов. После полудня мы были на Стоходе, захватили помещения бежавшего штаба со всеми бумагами и приступили к переправе. Оренбургские казачьи пушки гремели в сорока верстах в тылу у немцев, и… спешно выгружали немцы в Ковеле ту пехотную дивизию, которая отправлялась к Вердену.
Мы ночевали под ружейным огнем какой-то немецкой Этапной роты с того берега реки Стохода, а на другой день, перед рассветом, Волгцы вновь переправились через реку и захватили мирно шествовавший венгерский обоз, везший несколько тысяч пар прекрасного шерстяного белья.
С полудня германские пехотные цепи Ковельской дивизии начали на нас отовсюду нажимать. Мы отошли к селению Гривы и узнали, что немцы уже замкнули выход обратно. Они подвезли по железной дороге на Маневичи бригаду и захватили Серхов. У Езерцов полковник Черный вел бой с венгерской кавалерией, отбросил ее и даже взял пленных, но венгерцы продвинулись левее его и заняли выходы из Езерцов.
В сумерки наш конный отряд в пять полков, с орудиями собрался в Езерцах. Местный житель взялся вывести нас по какой-то лесной тропе, еще не занятой противником. Было так темно, что едущего впереди всадника не было видно. Низко клубились осенние тучи и мрачна была ночь. Впереди колонны шел крестьянин в серой свитке [7] Свитка — род верхней длинной одежды в западных и южных областях России.
с фонарем в руках, за ним узкой, растянувшейся на несколько верст колонной шла конница. Мы выступили в семь часов вечера и в два часа ночи подошли к спавшему в мертвой тишине селению Боровое. Послали узнать, кто там. Оказалось — наши.
— Чем я награжу тебя, золотой человек? — спросил я провожатого.
— Ничего мне, ваше превосходительство, не надо. Рад послужить Государю и войскам его. Если милость ваша будет, дайте мне Егорьевскую медаль с Его портретом, чтобы мог я своим внукам передать на память об этом дне… Подвиги Волгцев должны были быть награждены. Они почти все имели Георгиевские кресты, и мечта их была прославить перед войском весь полк. Получить «шефом» Наследника Цесаревича. Это громко говорили и офицеры и казаки.
«Господи! Если такая монаршая милость будет, надо нам какой-нибудь особенный подвиг совершить. Всем полком „на него“ ударить, да так, чтобы либо победа вышла, либо уже всем без останку погибнуть».
Таково было обаяние личности Государя и Наследника в 1915 году.
И как непохоже было это настроение доблестных Волгцев на настроение того несчастного солдата, который на пышную речь Керенского под Ригой сказал: «Вы посылаете меня на убой за землю и волю. Но какая же земля и какая воля для убитого? Мертвому ничего этого не нужно…»
В одних горела ярким светом бессмертная душа, согретая высоким сознанием величия подвига, в другом было только тело — уже мертвое даже и тогда, когда оно дышало и двигалось.
И счастливы те убитые, которых мы хоронили в долинах Стыри и Стохода. Они знали, за что они умирали.
Передо мною письмо, написанное 25 апреля 1922 года из Софии, из остатков Русской армии. Пишет вольноопределяющийся из кадет, юноша солдат. Его дух мятется и инстинктивно находит успокоение в том, в чем находили его наши отцы и деды, в чем находили его и Волгцы, мечтавшие умереть за своего будущего шефа.
Мой корреспондент, человек мне совершенно неизвестный, пишет по поводу моего романа: «… если бы Вы знали, как я завидовал хорунжему Карпову, когда он умирал. Завидовал потому, что он знал, за что он умирает и у него на душе было спокойно… Я вообще не понимаю, какие могут быть у русских людей лозунги, кроме одного старого, святого: „За Веру, Царя и Отечество“. Наши предки, деды и отцы умирали под этими заветами, и их тени зовут нас под них…»
Я вошел с представлением об особом награждении всего Волгского полка и написал частное письмо в Петербург, прося доложить о пожелании так много прославившихся казаков.
Был август 1916 года. Дивизия после кровавых боев у Рудки-Червище, на реке Стоход, была сменена Финляндскими стрелками и Сибирской пехотной дивизией и отошла в тыл.
Как-то в середине августа, часа в два ночи, начальник штаба разбудил меня телеграммой. Телеграмма была от Императрицы Александры Федоровны. Она сообщала, что Государь назначил шефом 1-го Волгского полка Наследника Цесаревича, и в трогательных выражениях поздравляла меня и полк с монаршей милостью.
Я сейчас же вышел и пошел к аппарату сообщить об этом командиру полка.
Остаток ночи я не спал. Радостное волнение владело мною. Сердце замирало. И было так блаженно хорошо, как бывало в далеком детстве, накануне именин, как было накануне производства в офицеры, как было в ночь, когда моим полком были взяты первые пушки.
И знаю, что так же не спали в эту ночь и офицеры и казаки.
Утро следующего дня было хмурое. Попрыскивал дождь. Я поехал к полку. Нарядный, в новых серых черкесках и белых башлыках, в черных папахах с голубыми верхами, он стоял у церкви селения Лешневки. Неподалеку гремели пушки — позиция была в девяти верстах за болотом.
— Примета хорошая — дождь, — говорил счастливый командующий полком, полковник Вдовенко. — По кавказскому поверью, если дождь к началу дела — быть удаче. Полк взял на караул. Я читал телеграмму Императрицы, и плакали слезами радости и качались шашки в железных руках. Через неделю, несмотря на военное время, во всем полку на голубых погонах красовался вензель «А». В Киев смотались и достали вензеля на офицерские погоны и трафарет и краску для казаков…
А через семь месяцев в Теребежове, в глухом тылу, эти самые казаки ходили на митинг, устроенный евреями в соседнем посаде, и вахмистр полка, лихой подпрапорщик, кавалер всех четырех степеней Георгиевского креста, говорил мне жестокие, колючие слова о том, что мы их в темноте держали, а теперь у них глаза открылись…
Но спокоен я. Спокоен потому, что знаю, как живут теперь кубанские казаки. В чужой земле, среди чужих гор, под чужой кровлей и на чужих хлебах они работают по прокладке шоссе чужому народу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: