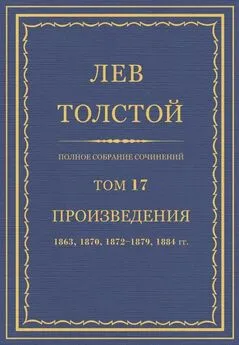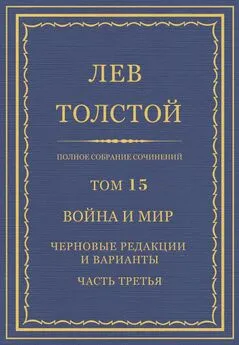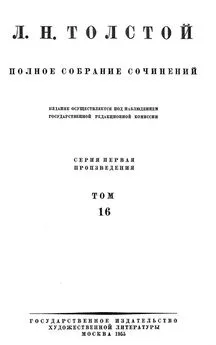Л Н. Толстой - Полное собрание сочинений. Том 17
- Название:Полное собрание сочинений. Том 17
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л Н. Толстой - Полное собрание сочинений. Том 17 краткое содержание
Полное собрание сочинений. Том 17 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Свой взгляд на эпоху преобразования, которой так усиленно занялся Толстой в 1870 г., он охарактеризовал следующим образом в своей «Записной книжке» под 2 апреля. «Петр, т. е. время Петра сделало великое необходимое дело, но, открыв себе путь к орудиям Европ. цивилизации, не нужно брать цивилизацию, а только ее орудия для развития своей цивилизации. Это и делает народ. Во времена Петра сила и истина были на стороне преобразователей, a защитники старины были пена-мираж». Эта последняя мысль легла в основание двух набросков романа (рукоп. XVI и XX), так и названных: «Стapoe и новое». Далее Толстой записал в своей Записной книжке: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут Европейцы — казаками. Народ казаками желает быть. Голицын при Софьи ходил в Крым, острамился, а от Палея просили пардона крымцы, и Азов взяли 4000 казаков и удержали. Тот Азов, который с таким трудом взял Петр и потерял. Как просто мы говорим теперь: как глупо было учреждение пытки. Пытка затемняла, а не открывала правду. Через... лет будут удивляться: как могли не понимать глупость учреждения присяжных и обвинителя и защитника! Это затемняло правду и была игра. Петр — охотник. Признаки: баб, детей, baby не любит, пышности не любит. Любит доходить сам». Под 4 апреля Толстой писал: «Читаю историю Соловьева. Всё по истории этой было безобразно в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвел великое и единое государство?! Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю. Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормили хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил чернобурых лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и ростил этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную? Кто сделал, что Богд[ан] Хмельницкий передался Р[усским], а не Т[атарам] и П[олякам]. Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражущихся. И это — правители, — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого». Следующая запись под 5 апреля выясняет те задачи художественной истории («истории—искусства»), установление которых должно было осветить ход исторических работ автору и определить теоретические предпосылки его писания в связи с новым замыслом художественного эпоса из эпохи Петра I. «История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал, даже жизнь одного человека, но, хотя бы понял период жизни не только народа, но человека из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство, дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека. Как же в 400-х печатных листах (самое многотомное историческое сочинение) описать жизнь 20 миллионов людей в продолжение 1000 лет, т. е. 20 000 000 × 1000. Не придется буквы на описание года жизни человека. Но и это не вся еще беда. Искусства нет, и не нужно, говорят, нужна наука. Не только подробностей всех о человеке нет. Но из миллионов людей об одном есть несколько недостоверных строчек и то противуречивых. Любви нет, и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде всё было хуже. Как же тут быть? А надо писать историю. Такие истории писали и пишут, и такие истории называются наука. Как же тут быть?! Остается одно: в необъятной и неизмеримой массе явлений прошедшей жизни не останавливаться ни на чем; а на тех редких, на необъятном пространстве отстоящих друг от друга, памятниках — вехах протягивать искусственным, ничего не выражающим, языком воздушные воображаемые линии, не прерывающиеся и на вехах. На это дело тоже нужно искусство: но искусство это состоит только во внешнем: в употреблении бесцветного языка и в сглаживании тех различий, которые существуют между живыми памятниками и своими вымыслами. Надо уничтожить живость редких памятников, доведя их до безличности своих предположений. Чтобы всё было ровно и гладко и чтобы никто не заметил, что под этой гладью ничего нет. Что же делать истории? Быть добросовестной. Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает — знает посредством искусства. Ибо история, долженствующая совокупить необъятное, есть высшее искусство. Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство , как и всякое искусство, идет не в ширь, а в глубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке. —»
Из приведенных записей следует, что в 1870 г.: 1) Толстым усиленно изучалась эпоха Петра (в особенности труды Устрялова и Соловьева, извлечения из которого, различным образом систематизированные, составляют целую пачку бумаг, сохранившихся в архиве); 2) Толстой сосредоточенно размышлял над общими историческими предпосылками эпохи и выяснял задачи своей предполагаемой «поэмы в прозе», как называла С. А. Толстая этот труд. Эти исторические размышления Толстого, перенесенные на другую эпоху, представляют собою продолжение рассуждений из области философии истории, которыми замыкается последний том «Войны и мира». Мысль о невозможности научно «описать жизнь не только человечества, но одного народа» («Война и мир» т. IV, настоящее издание — т. 12, стр. 296) явилась отправным пунктом для приведенной выше записи под 5 июня 1870 г. 3) Кроме этих подготовительных занятий Толстым за 1870 г. был написан ряд приступов из эпохи 1689 г. 1207
За 1871 г. мы не имеем свидетельств о продолжении работ над историческим романом. В это время Толстой был отвлечен изучением греческого языка и началом работ над «Азбукой».
Имеется лишь следующая запись С. А. Толстой под 27 марта 1871 г.: «Мечтает написать из древней русской жизни».
За 1872 г. и начало 1873 г. сохранились разнообразные сведения о занятиях Толстого над романом времен Петра, которые за данный промежуток времени развивались с наибольшей интенсивностью. У самого Толстого в его Записной книжке под 18 (16) января 1208 мы находим следующую запись: «Гости угостили войска под Кожуховым. Лефорт. Posselt, II т. 213 и далее: стреляли и ранили». Эта запись позволяет приурочить к январю и следующим месяцам 1872 г. составление начал, относящихся ко времени Кожуховского похода (потешная война 1694 г.). Стр. 213 Поссельта начинается со слов: Der 4 October war der St. Franciscus-Tag, Lefort’s Namensfest. Der Zaar und die Officiere der verschiedenen Truppenkörper waren bei ihm zum Mittagsessen versammelt. Срв. вариант № 14: В Кожухове, слышно было, гулял любимец царский Лефорт, Франц Иванович, и угощал на именинах царя и всех придворных. Срв. также вариант № 11. Эта группа «Кожуховского похода» состоит из восьми начал (№№ 10—16).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: