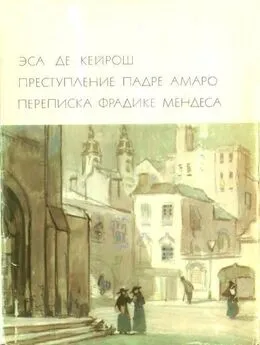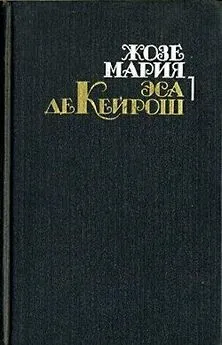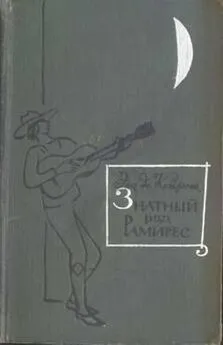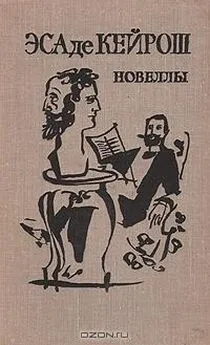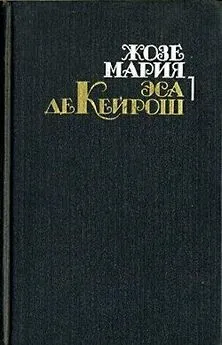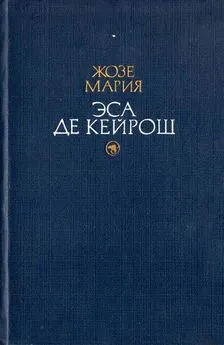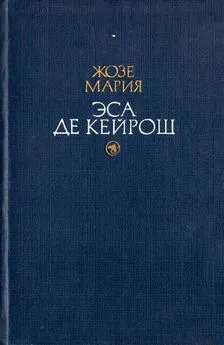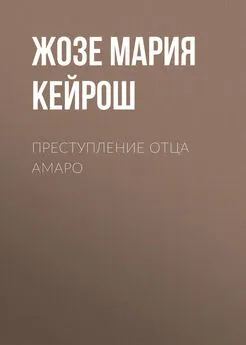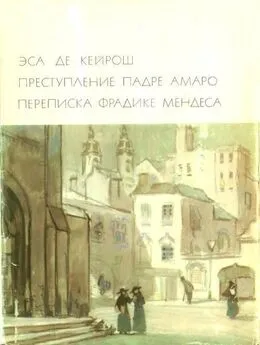Жозе Мария Эса де Кейрош - Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса
- Название:Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жозе Мария Эса де Кейрош - Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса краткое содержание
БВЛ - Серия 2. Книга 63(127).
Жозе Мария Эса де Кейрош (1845–1900) – всемирно известный классик португальской литературы XIX века. В романе «Преступление падре Амаро» Кейрош изобразил трагические последствия греховной страсти, соединившей священника и его юную чувственную прихожанку. Отец Амаро знакомится с очаровательной юной Амелией, чья религиозность вскоре начинает тонуть во все растущем влечении к новому священнику...
Образ Карлоса Фрадике Мендеса был совместным детищем Эсы де Кейроша, Антеро де Кентала и Ж. Батальи Рейса. Молодые литераторы, входившие в так называемый «Лиссабонский сенакль», создали воображаемого «сатанического» поэта, придумали ему биографию и в 1869 году опубликовали в газете «Сентябрьская революция» несколько стихотворений, подписав их именем «К. Фрадике Мендес».
В издание вошли романы португальского писателя Эса Де Кейрош (1845-1900) «Преступление падре Амаро» и «Переписка Фрадике Мендеса».
Вступительная статья М. Кораллова, примечания Н. Поляк.
Перевод с португальского Г. Лозинского, Н. Поляк, Е. Лавровой.
Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На что уж снисходителен синедрион, вынесший за семь лет всею лишь три смертных приговора, но и он не уступает в гневе толпе, которая в ответ на слова Иисуса — «Царство мое не от мира сего» — завопила: «Так вон его из этого мира». Варавва, разбойник, совершивший убийство, милее мытарям и нарумяненным тивериадским проституткам, чем Иисус, проповедующий добро и любовь к людям. Смерти его требует, надрывая глотку, даже тот, из Капернаума, еще в субботу — сухорукий и недужный, целовавший Иисусу сандалии и слезно моливший: «Равви, исцели меня!»
По мысли Эсы де Кейроша, мечтатель из Галилеи, как всякий трагически чистый мечтатель, всем, всегда и везде оказывается лишним: когда казнь свершилась, саддукей, довольный, что победил Иегова и древний порядок, бросает толпе: «На холмах, по счастью, всегда хватит моста для крестов!»
Следующий ромам — «Семейство Майя» — начинается описанием мрачноватого особняка в Лиссабоне, где после долгих лет отсутствия снова обосновался старый Афонсо до Майя. Когда-то он слыл самым яростным якобинцем Португалии, читал энциклопедистов, Руссо и Вольтера, теперь же забыл про ненависть к духовенству и преклонение перед республикой, которую хотел основать. На старости лет Афонсо де Майя уже не требует от Лиссабона героев вроде Катона и Муцин Сцеволы. Он любит старую куртку и старое кресло у камина, старые книги и старого кота, а не выносит лишь ограниченные, циничные, не стесняющиеся в средствах правительства, за что и получает долголетнюю ссылку в Англию. Надежды его связаны с внуком — Карлосом Эдуардо. Надежды великие уже потому, что позади — великие разочарования, а еще по той причине, что красавец Карлос был создан богом в минуту редкостного подъема и наделен всеми талантами.
Избрав профессией гуманную, полезную медицину, Карлос в студенческие годы читает Прудона, Конта и Спенсера, занимается гимнастикой и фехтованием, погружается в музыку, искусство, литературу. Но г.от закончена Коимбра, совершены путешествия в Рим и Москву, в Пекин и Лондон, в Америку и Японию, уже позади нелегкий сердечный опыт, а давняя мечта — стать гордостью нации — дальше от осуществления, чем когда-либо прежде. Единственное, что можно делать в Португалии, приходит к выводу Карлос, разводить овощи и ждать революции, которая выдвинет людей сильных, живых, самобытных. И хотя старик Афонсо, истомившийся от безделья внука и его друзей, почти молит их: «Хорошо, так устраивайте хоть революцию, только, ради Христа, делайте что-нибудь»,— Карлос все-таки избирает времяпрепровождение светски-пустое, безобидное и приятное. Живя в Париже, он делит время между женщинами и скачками, театрами, клубами, ибо жизнь не удалась — и наивны надежды, бессмысленно отчаяние.
Как ни различны историко-фантастический роман о Христе и современная хроника трех поколений знатного португальского рода, есть между ними внутреннее родство: обе книги — о «лишнем человеке». К ним примыкают и последние два романа писателя.
«Знатный род Рамирес» вышел незадолго, можно сказать — накануне, «Город и горы» — вскоре после смерти Эсы де Кейроша. В первом пласты романтические и реальные, страницы, посвященные давней героике знатного рода и растерявшему рыцарские добродетели потомку, образуют — но иначе, чем в «Реликвии»,—сложное, «синтетическое» повествование. Как всегда, главное оружие романиста — то беспощадная и сатирически-острая, то снисходительная и ласково-добродушная ирония. Эса де Кейрош, как Гулливер, с высоты своей европейской, исторически-широко ii позиции наблюдает за битвами «остроконечников» и «тупоконечников» в родной ему Лилипутии. Подобно старому Афонсо, Эса обращается к идальго Рамиресу с настойчивым призывом: возродись же и возроди страну! Но, отыскивая пути возрождения, Эса в самой Португалии достойного дела и средства к достойной цели своему герою все-таки не находит.
«Город и горы» с его будто бы найденным делом и смыслом существования печальных выводов Эсы не отменяет. Наоборот, роман подтверждает их — как доказательство от противного.
Роман вырос из повести «Цивилизация», герой которой, португальский аристократ в светском Париже, погрузившись в суету города и в сокровищницу культуры (тридцать пять энциклопедических словарей в личной библиотеке), «преодолел» Шопенгауэра и Екклесиаста. Что, в самом деле, мог знать о жизни мрачный немец, проведший полвека в провинциальном пансионе, отводя глаза от книги только за табльдотом в беседе с поручиками гарнизона? И стоит ли прислушиваться к Екклесиасту, обнаружившему, что жизнь — иллюзия, только к семидесяти пяти годам, когда власть уже ускользала из рук и триста наложниц гарема стали излишними для истощенной плоти: «один проповедует на похоронный лад о том, чего не знает, другой — о том, чего не может».
В романе герой — «принц Счастливчик» — тоже поглощает вавилонскую башню всяких этик и эстетик, меняет Гартмана на Рёскина, интеллектуальный феодализм Ницше на неистовое самоотречение Толстого, терпеливо испытывает в своем особняке и на себе самом новейшие ухищрения бытовой техники, чтобы нечаянно обнаружить утраченную радость жизни в патриархальной простоте португальской деревни. Роман «Город и горы» с его розоватой идиллией, с его «последним прости» суете и грохоту цивилизации, «городу», с попыткой найти убежище в «горах», в удаленном, от социальных бурь честном существовании.— продиктован тоскою по родине, ясным ощущением кризиса буржуазной культуры и всей атмосферою «конца века». В этой кризисной атмосфере родилась «Переписка Фрадике Мендеса» (1891).
«Еще в период «Сенакля», сетуя па истинно китайскую апатию лиссабонцев, закосневших в вековом созерцании и пережевывании одной и той же полу мысли,— писал Ж. Ваталья Рейс,— мы решили общими силами создать сатанического поэта — Карлоса Фрадике Мендеса».
Подборке ею стихов, напечатанной в «Сентябрьской революции», Эса предпослал вступление, в котором разъяснял, что сеньор Фрадике Мендес — автор трех поэтических томов; первый, содержащий любовные стихи, назван «Гитара Сатаны»; том философской лирики озаглавлен «Сегидильи Пана»; третий, включающий в себя исторические поэмы и драматические фантазии, получил название «Одичалые мысли». В них видна, продолжает Эса, субъективность художника, сокрушающая запруды формализма и классических традиций, разливающаяся неудержимым, стихийным потоком, «чему способствует хаотическое состояние философской, социальной и эстетической мысли нашей эпохи, эпохи созидания и анархии, освобождения от пут и перехода к новым формам».
По определению Эсы, «сатаническая поэзия» — это романтическое в своей основе стремление к индивидуализму, которое почти не нашло в Португалии выразителей и апостолов, не встретило отклика в душе народов полуострова, живущих «под двойным гнетом мирского и церковного деспотизма, питаемого монархическим режимом».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: