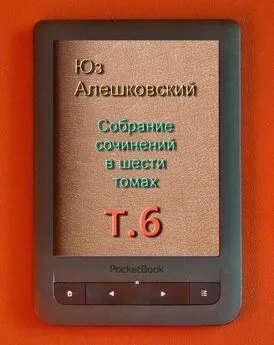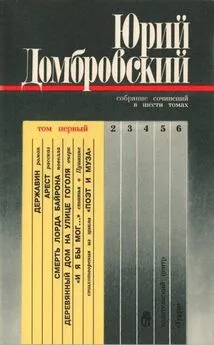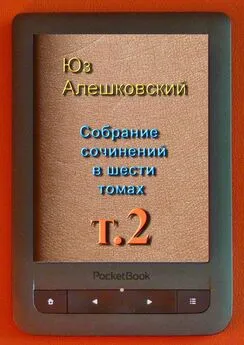Юз Алешковский - Собрание сочинений в шести томах. т.6
- Название:Собрание сочинений в шести томах. т.6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, АСТ
- Год:2009
- ISBN:978-5-17-061048-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юз Алешковский - Собрание сочинений в шести томах. т.6 краткое содержание
Этот человек, (Ю. Алешковский) слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым – и с радостью – признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не «о» и не «про», ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие «о», «про», «за», «против» и «во имя»; сказать точнее – русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания. Алешковский первым – и с радостью – припишет языку свои зачастую ошеломляющие прозрения, которыми пестрят страницы этого собрания, и, вероятно, первым же попытается снять с языка ответственность за сумасшедшую извилистость этого русла и многочисленность его притоков.
И. Бродский
Собрание сочинений в шести томах. т.6 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своем нравственном и философском анализе советской ситуации Алешковский идет от языка, он показывает, какую важную роль играет язык в судьбе человека.
Несколько русских писателей последнего времени – Венедикт Ерофеев, Фазиль Искандер, Эдуард Лимонов пошли по этому же пути, используя контрасты разных языковых уровней в спектре между языком «естественных» людей Абхазии и полуграмотным русским Нью-Йорка.
В лице Юза Алешковского русская литературная традиция остается верной себе и отстаивает прежние ценности с той же страстью, с тем же воистину религиозным пафосом, что и во времена Достоевского и Толстого.
«И тогда я начал носить повязку на глазах, чтобы оскверненные слова моего великого и могучего языка не кололи мне глаза, чтобы они не оскорбляли моего зрения и не плевали мне в сердце и в душу».
Русская литература 20 века: исследования американских ученых, Санкт-Петербург 1993, стр.526-535 (Перевод М.Бернштейн и М.Штейнберг)



Песня о Сталине: тюремные песни и ирония

Cюзанна Фуссо
Осип Мандельштам дал, наверное, лучшее определение оригинальности в поэзии: «Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением».
(1) «Песня о Сталине» Юза Алешковского, написанная в 1959 году, остается бессмертной благодаря именно этому счастливому сочетанию традиции и новаторства. По ряду всем известных исторических причин, «жалобы узника» широко представлены как жанр в русской песне. В «Песне о Сталине» можно заметить все основные темы и приемы этого жанра. Алешковский красноречиво продолжает главнейшие темы: физических страданий от тяжелого принудительного труда в страшном климате и нравственных страданий невинно осужденного. Песня Алешковского кончается словами зека не сомневающегося в том, что он не зря пожертвовал своей жизнью на благо родины:
Я верю: будет чугуна и стали
На душу населения вполне. (2)
Мотив неправедного обогащения за счет страждущих крестьян и рабочих, рефреном повторяется в разных
вариантах в дореволюционных тюремных песнях:
Все, чем держатся их троны
Дело рабочей руки…
(Л.П. Радин «Смело, товарищи, в ногу!»
1896 (?) 1897)
За тяжким трудом, в доле вечного рабства,
Народ угнетенный вам копит богатства…
(Г.М. Кржижановский
«Беснуйтесь, тираны»,
1898) (3)
Самое удивительное в «Песне о Сталине» это «забота» заключенного о вожде, который тоже сидит в своей крепости, хотя условия их заключения подчеркнуто разные:
Вам тяжелей, вы обо всех на свете
Заботитесь в ночной тоскливый час,
Шагаете в кремлевском кабинете,
Дымите трубкой, не смыкая глаз.

И мы нелегкий крест несем задаром
Морозом дымным и тоске дождей,
Мы, как деревья, валимся на нары,
Не ведая бессонницы вождей.
Вспомним известную дореволюционную песню, в которой заключенный думает о царе, сидящем в своем дворце:
А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая!
(Неизв. автор «Вы жертвою пали
в борьбе роковой»,
1870-ые г.)
И то же в другой:
А хозяин сему дому (Александровский централ),
Здесь и сроду не бывал.
Он живет в больших палатах,
И гуляет, и поет,
Здесь же в сереньких халатах
Дохнет в карцере народ.
(Неизв. автор «Далеко, в стране Иркутской»,
1906) (4)
Несомненно, что именно эти отголоски и повторения давно знакомых мотивов придают «Песне о Сталине» качество народной, не сочиненной каким-то одним автором, но кочующей от исполнителя к исполнителю в устной народной традиции.

Тем не менее, у песни есть автор, к тому же весьма искусно владеющий выразительными возможностями поэтической словесности. Изысканность мастерства Алешковского состоит в том, что в песню заключенного он внес современное восприятие человека середины 20-го века. Его новаторство заключается в двух главных и взаимосвязанных компонентах: юморе и иронии, почти совсем отсутствующих в дореволюционных тюремных песнях. Они полны серьезного негодующего пафоса, речь в них идет о жизни и смерти, а о таких делах не шутят. В песне Алешковского напротив – ее серьезность заключается как раз в ее несерьезности. Вместо того, чтобы негодовать по поводу несправедливости своего заключения, герой Алешковского дает почувствовать эту несправедливость, якобы покорно воспринимая все ужасы происходящего:
В чужих грехах мы сходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Но верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Юмор и ирония совершенно очевидны в восхвалении сталинской мудрости, его ученых достижений, его героизма в борьбе с царизмом, в сочувствии его легендарной бессонице, вызванной заботами о родине. Но, конечно, самым сильным и самым смешным, одновременно грустным, у Алешковского является его прием использования советских штампов в свете индивидуального опыта личности. Он снова и снова демонстрирует нам как советские абстракции и клише воспринимаются отдельным человеком. Семь из одиннадцати строф песни, опубликованной в 1996-ом году в «Собрании сочинений» Алешковского, являют нам примеры подобного приема.
Во-первых, это, конечно, вызывающая ироничность обращения «товарищ» в первой строфе. Иллюзорность возможности такого обращения каждого простого советского гражданина к великому вождю как к «товарищу Сталину» моментально обнажает замечание заключенного, что в настоящее время у него один товарищ – серый волк. Расхожая фраза «обостренье классовой борьбы» становится ужасающе и отчетливо реальной в образе конвоиров, которые «словно псы, грубы». Революционным лозунгом газеты РСДП Ленин сделал слова «Из искры возгорится пламя», а у Алешковского эта вдохновляющая революцинеров «искра» превращается в костер, обогревающий замерзнувших заключенных. Точно так же Алешковкий обращается с одной из любимых сталинских поговорок: «Лес рубят – щепки летят», – и ее переносный смысл сразу же превращается в буквальный – исполненный исторической трагедии. У Алешковского рубка леса становится реальной деятельностью для заключенных строгого режима:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: