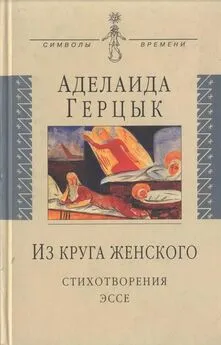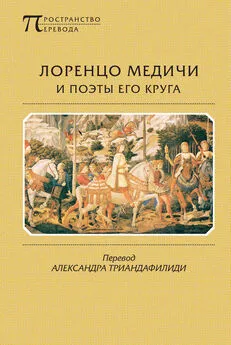Аделаида Герцык - Из круга женского: Стихотворения, эссе
- Название:Из круга женского: Стихотворения, эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0233-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аделаида Герцык - Из круга женского: Стихотворения, эссе краткое содержание
Русская литература в последние годы вызвала к новой жизни множество забытых и вытесненных имен; особенно много вновь открытых поэтов принадлежит Серебряному веку. Одним из таких забытых, но весьма ярких представителей литературы на рубеже XIX–XX веков является Аделаида Герцык.
В книге собрано ее творческое наследие, включая лирический дневник и философские размышления. В своей поэзии, в основном религиозного и мистического содержания, Герцык выходит из литературы модерна навстречу тоталитарному XX столетию. В этом столкновении — завораживающая суть ее стихов.
Издание снабжено довольно обширным справочным аппаратом и приложением, в котором собраны отзывы современников о творчестве поэтессы.
Из круга женского: Стихотворения, эссе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сколько их тут — этих красивых коробок — с новоизобретенными играми! И кто придумывает их? «Ледяные горы», всех видов лото, путешествия, «маленький столяр», оракул, складные картинки, архитектурные кубики — как все это жестко! Ведь надо, чтобы такой предмет стал близким, поддался усвоению, чтобы над ним можно было творить, любить его, жалеть, претворять. Не грубое и мертвое…
Изобретатели игрушек положительно лишены всякой фантазии и, видимо, предполагают в детях полное отсутствие ее.
И останавливаешься на том, чего не надо было искать в «игрушечном базаре», покупаешь тетрадку и разноцветные карандаши, книгу с картинками, — это лишь материал, который поможет открыть заложенные в душе способности. Подарок вообще тяжело перенести чувствительной душе, в нем есть что-то грубое, посягающее на нас: он взамен требует радости и благодарности, а главное — насильственного внимания к подаренному предмету. Вот почему так обидна бывает его ненужность, влекущая за собой притворство из нежелания огорчать близких.
Подарки были одной из трагедий моего детства, и мне хорошо памятно напряженное чувство, с каким я ждала и принимала их.
Послушно вносишь к себе в детскую какой-нибудь большой ящик с путешествием и думаешь — куда бы поставить его, чтобы он был незаметен и не слишком мешал моей жизни. Огромный, чуждый предмет врывается в детский мир; для него нет ни места, ни названия в душе, а его надо любить, беречь, что-то с ним делать… Нельзя его изгнать от себя, нельзя забыть, — это будет неблагодарно. Каждый раз день рождения, которого я ждала с тайной надеждой и тревогой, приносил одно разочарование. Правда, желания у меня были большей частью неясные для меня самой и трудно осуществимые, но то, что мне дарили взрослые, казалось до того искусственно навязанным и противоречащим моим мечтам, а удовольствие и благодарность, которые приходилось выражать, так утомляли душу, что я не помню более грустных дней!
Тягостней всего были подарки дальних родственников и чужих. Приезжала какая-нибудь тетка, или друг дома, и привозили мне подарки, чтобы выказать внимание хозяевам. Не сообразуясь с моими вкусами, не зная их, они покупали видные, красивые вещи, которые бы не прошли незамеченными. До сих пор у меня в памяти красная плюшевая сумочка, привезенная одним дядей, про которую мне сказали, что мне отдадут ее, когда я буду большая, и, завернув в папиросную бумагу, спрятали в ящик комода. Всем было приятно, — дядя улыбался, довольный своим выбором, я должна была благодарить его… Но долгое время, проходя мимо комода, я испытывала мучительное чувство, вспоминая о ненужном, обидном подарке, лежащем там.
Иногда, впрочем, случалось, что новый предмет покорял меня, но я всегда по-своему играла им. Особенно нравились мне маленькие хрупкие вещи, за которые надо было бояться и жалеть их. Помню мою романтическую любовь к бумажному рыцарю, извлеченному из кукольного театра. Их было много там — картонных дам и рыцарей на деревянных дощечках, но почему-то он один занимал меня, — не знаю, из-за бела ли пера на шляпе, или из-за той роли, которую я заставляла его играть. Я сочиняла о нем целые повести и носила его неотлучно при себе. Однажды он сильно вымок от дождя, и я решила, что его надо похоронить для нашего общего спокойствия — его и моего. Я разорвала его пополам, чтобы гибель была окончательной, и зарыла в саду, где он и пролежал всю зиму; но с наступлением весны я не выдержала и откопала его. Сердце обливалось жалостью. Выцветший, измокший — он был ужасен; тщательно склеив обе половинки, я спрятала его в коробочку. Вероятно, и теперь он лежит где-нибудь в ящике со старыми игрушками.
Когда сестра подросла настолько, что могла стать поверенной моих дум, характер моих игр несколько изменился. У меня не было стремления к физической деятельности и к движению, — игра моя обыкновенно сводилась к тому, что я неподвижно сидела над предметом и думала о нем, причем моя роль всегда была пассивна: я не любила быть героиней и лишь придумывала поступки и слова других действующих лиц.
Сестра оказалась очень способной ученицей, чутьем угадывая и схватывая то, чего еще не могла понять, и никогда не оскорбляя моей фантазии, как это делали другие дети, и я понемногу сделала ее участницей всех моих замыслов.
Долгое время любили мы игру в «пытки». Как я уже говорила, всякое проявление жестокости неотразимо волнующе и привлекающе действовало на меня, несмотря на то, что я была мягкой, робкой по натуре и чувствительной к малейшему страданию. Вероятно, жестокость влекла меня своим контрастом, как что-то недоступное, — как слабых людей влекут борьба и страсти, все сильное и яркое, все, что не входит в круг их переживаний и что они со страхом отстраняют, когда оно приближается, чтобы потом снова, среди затихшей, усмиренной жизни, тосковать по нем.
Я боялась пыток и выдумывала их с неиссякаемой фантазией. Толчком к этому послужила «Хижина дяди Тома». Больше всего потрясло меня в этой книге описание истязаний, которым подвергали негров. Столб от гигантских шагов превращался в нашем воображении в раскаленный железный шест; негров привязывали к веревкам и заносили высоко в воздух. Внизу земля была усеяна камнями, заостренными кверху, так что их ждала неминуемая гибель — или они сгорали, ударяясь о раскаленный столб, или, срываясь вниз, падали и разбивались об острые камни. Часами летали мы вокруг столба с висящей вниз головой в самых мучительных напряженных позах, искренно ударялись о столб, падали на песок и лежали неподвижно, пока воображаемые «истязатели» не уносили нас и не приводили на смену новую партию негров.
Напряженно замирали мы на одном впечатлении и не хотели легкой, быстрой сменой событий разряжать свое напряжение. Надо было успеть поверить, довести страданье до полной реальности. Разгоряченные, с болезненным возбуждением приходили мы к обеду, где все было так буднично и безопасно, где всегда одинаково скучно разговаривали взрослые, — и такая бездна лежала между тем, что мы только что пережили, и мирной действительностью, что нельзя было их примирить, равно делить внимание между тем и другим, — надо было отвернуться от чего-нибудь одного, увидеть в нем врага себе.
И мы стали видеть врага в жизни.
После обеда нас тянуло опять к замученным неграм, но M-lle Valérie шла с нами в сад и добросовестно пыталась сама занять нас. Она искусно плела корзиночки и показывала нам, как это делать, и мы послушно сидели рядом, делая вид, что смотрим на ее работу, чтобы не обидеть ее, и чувствуя нестерпимый стыд за то, что она, большая, так обманывает себя и нас, притворяясь, что ей это весело.
Она предлагала играть в лото, она рассказывала о своем детстве в Iverdon, она бодро вставала и говорила: «Voyons, qui fera plus vite le tour du jardin! Un! Deux! Trois!» [22] Посмотрим, кто быстрее обежит вокруг сада! Раз! Два! Три! (фр.).
, хлопала в ладоши и делала вид, что сама еле удерживается от бега, что сейчас перегонит нас, — и мы, стыдясь себя и ее, стимулировали беготню вокруг сада, замедляя шаги и лениво бредя, когда кусты сирени скрывали нас от ее глаз. И возвращались с теми же скучающими, рассеянными лицами. И бедная швейцарка не то враждебно, не то с сожалением смотрела на нас, говоря о том, как мы непохожи на других детей. Как часто попрекали нас этими «другими» детьми!
Интервал:
Закладка: