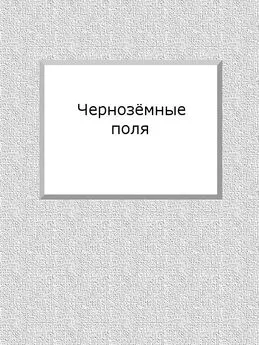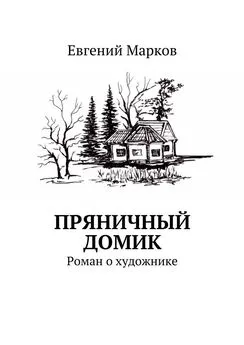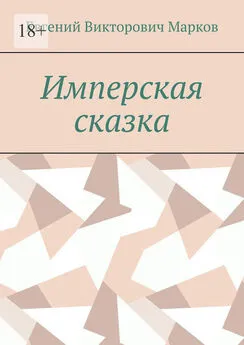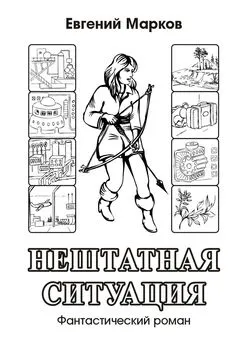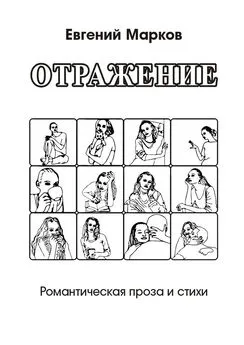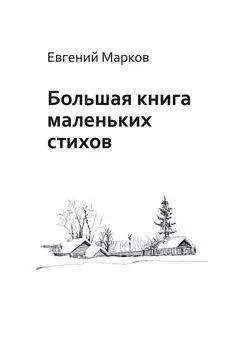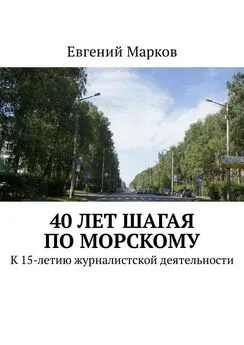Евгений Марков - Чернозёмные поля
- Название:Чернозёмные поля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1877
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Марков - Чернозёмные поля краткое содержание
Евгений Львович Марков - известный русский дореволюционный писатель. Роман "Чернозёмные поля" - его основное художественное произведение, посвящённое жизни крестьян и помещиков Курской губернии 70-х годов девятнадцатого века.
Чернозёмные поля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В коптевской Пересухе наступало важное событие — престольный праздник. Миколин день для всей окрестности был центром тяжести целого года. Кто считает деревенским «праздником праздников», по учению нашей церкви, Светлое Христово Воскресенье, тот глубоко ошибается. «Праздник праздников» в каждой русской деревне — этой храмовой праздник, в котором русский человек видит свой собственный торжественный день, отличающий его от всех соседних деревень, день своего личного, специального покровителя. Русский народ особенно любит осенние престольные праздники. Троица, Вознесение, Спас — всё это в некотором смысле постные праздники. Работы полны руки, старый хлеб съеден, нового ещё нет, свежины нет, птицы нет, продавать нечего — стало быть, денег нет, а денег нет — водки нет. Но с Покрова один за одним начинаются настоящие «престолы»: Покров, Казанская, Скорбящая, Митриев день, Михайло Архангел и так далее до Миколина дня, русского престольного дня по преимуществу. Гуси и утки, ожиревшие на даровом зерне, режутся и продаются огулом с наступлением морозов и домашнего корма. Свиней, подобравших последний колосок на жнивьях, бьют на сало и свежину; баба только знает управляться со студнями, кишками, требухою, обрезью; бьют и лишнего барана, чтобы не кормить зимою, продают на покровских ярмарках всякую лишнюю скотину, требующую зимнего ухода и содержания; а тут хлеба уже намолочено за осень, продана конопля, закрома полны — и деньга шевелится в мужицкой мошне, а работы никакой; хоть месяц прогуляй, беды большой не будет. Понатёр мужик свой хребет пятимесячной работой изо дня в день, с зари до зари, хочется ему и вздохнуть когда-нибудь от работы, побаловать себя плодами трудов своих. Оттого никогда не бывает на святой Руси таких длинных, весёлых и пьяных праздников, какие начинаются с Покрова. Хорошо губернскому чиновнику ворчать на мужицкое пьянство; хорошо и столичному журналисту метать в деревенского мужика свои литературные громы за его безобразие. Ведь ни губернский чиновник, ни столичный журналист не вспомнят того, что эти переезды целых сёл с пьянства на пьянство, от Казанской до Скорбящей, от Скорбящей к Митрию, — для мужика тот же «зимний сезон увеселений», который в столичной жизни принимает такой сложный и разнообразный характер. Итальянская опера с своим дорого стоящим абонементом, английские клубы с тысячными поварами и тысячною игрою, всевозможные балы, собрания и маскарады, на которые кидаются тысячи, всевозможные гулянья на тысячных рысаках, все Дюссо и Борели с ящиками шампанского, — всё это роскошное и разнообразное безделье «образованного» человека деревенскому мужику заменяется одним дешёвым пьяным праздником. Он пьёт много, но пьёт зато шишовскую водку по сорок копеек за штоф, а не французское вино по пять рублей за бутылку. Напившись, он ругается и дерётся, и валяется, как свинья. Но вряд ли лучше его ругани и его грубых зуботычин та утончённая руготня и та утончённая драка, которая составляет сущность наших собственных общественных отношений во время хронического кутежа, скромно называемого нами нашею общественною жизнью. И если нашу светскую молодёжь, наших светских старичков развозят покойные кареты на рысаках, а не растаскивают за волосы хныкающие бабы, то в этом преимуществе ещё нельзя видеть ничего особенно нравственного. Во всяком случае, самый строгий моралист должен согласиться, что спина, вспахавшая, скосившая, свозившая и смолотившая десять десятин, имеет более оснований кой-когда повалятся хотя бы в бессмысленном бездействии, чем другая спина, не испытавшая на себе во всю жизнь иной тяжести, кроме тяжести шармеровского фрака. И с точки зрения социальной пользы безвреднее извлекать из самого себя все источники наслаждения, заменяя оперу и концерт собственною глоткою, балеты — собственным трепаком, французские гостиницы с татарскою прислугою — своей собственной хатой, собственной бабой, выписных орловских рысаков — сивою кобылой, взрощенной на домашней соломе, чем покупать это наслаждение ценою тяжкого труда многих и многих.
Нужно глубоко скорбеть о том, что русский человек — пьяный человек. Но, выражая эту скорбь, следует разуметь под русским человеком не одного мужика в тулупе, пьющего сивуху, как разумеют это многие крыловские Климычи. Прежде, чем подумать о мужике, который работает и пьёт, не лишнее вспомнить о другой части нашего общества, которая под разными видами и названиями безобразничает не меньше мужика в тулупе, отличаясь от него только тем, что не работает.
Нравственное безобразие и безделие городской жизни — зло гораздо более глубокое и опасное, чем скотский отдых человека, работающего, как лошадь.
Уже за неделю кругом Пересухи чуялся в воздухе «Миколин день». Никто не нанимался ни на какие работы на эти дни, все норовили к своим домам, к своему хозяйству. Кто только мог, всякий старался рассчитаться с хозяином, бросить место, как бы ни было оно выгодно, чтобы на «праздник» чувствовать себя вполне свободным. Кто не рассчитывался совсем, требовал у хозяина отпуска на праздник с такою настоятельностью, что отказать ему — значило вынудить его уйти самовольно. Последний работник был убеждён в невозможности такого отказа, и самый неуступчивый хозяин не решался на него. К празднику стали собираться в Пересуху такие люди, о существовании которых многие забыли, но которые имели с Пересухой какую-нибудь связь в настоящем или прошедшем. Приходили мастеровые из Крутогорска в новых картузах, в новых поддёвках, с новыми гармониками, собрались все бывшие коптевские дворовые, кто откуда, мужчины, женщины, девки, мальчишки. Некоторые явились к празднику даже из Ростова, из Таганрога, сделав несколько сот вёрст пути. Пришёл старый пьяница, вор и охотник Абрамка, с перебитой спиной, только что рассчитавшись в Таврии с земляным подрядчиком, принёс в сапоге двадцать семь рублей сальными бумажками и такой запах сивушной гари, что его можно чуять за версту. Пришёл знаменитый балагур, силач и пьяница Николай столяр, вдвойне чувствовавший себя именинником в Миколин день — за себя и за своё село, притащил с собою к сестре жену и дочь, сняв их для этого с места у какой-то крутогорской вдовы-генеральши. Приплёлся зачем-то из Ростова лакей Андрюшка Дардыка, который был известен только тем, что никто не мог глядеть на него без смеха, и у которого в Пересухе оставалось всего родни — невестка покойной жены. И однако Дардыка во время своих странствований по Ставрополям и Ростовам твёрдо верил, что Пересуха — его родина, что «в случае чего» он «домой махнёт». Когда он после Михайлова дня потребовал расчёт у хозяина, которому служил, по своей дерзости, вместо повара, и хозяин стал его удерживать, ласково говоря: «Куда это тебя, Андрей, подмыло? Жил бы у меня», — то Андрей Дардыка ответил ему не без гордости: «Что ж жить-то! Мы нонче уж не крепостные. Надо и домой сходить, дома проведать; по чужим людям век не проживёшь!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: