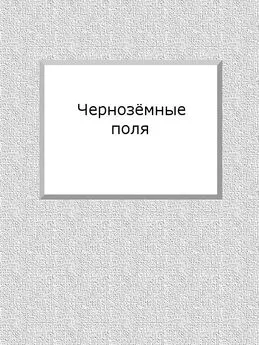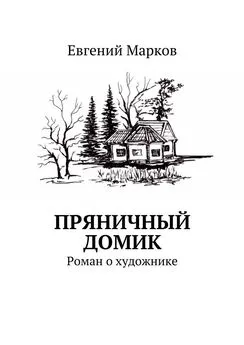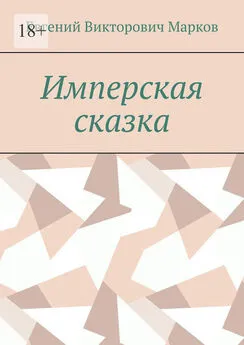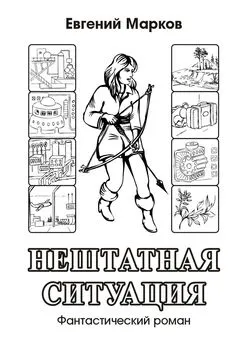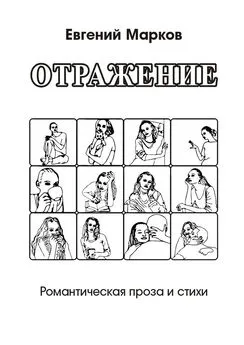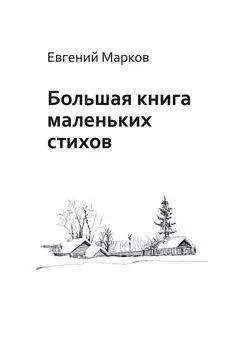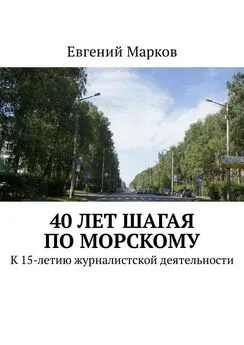Евгений Марков - Чернозёмные поля
- Название:Чернозёмные поля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1877
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Марков - Чернозёмные поля краткое содержание
Евгений Львович Марков - известный русский дореволюционный писатель. Роман "Чернозёмные поля" - его основное художественное произведение, посвящённое жизни крестьян и помещиков Курской губернии 70-х годов девятнадцатого века.
Чернозёмные поля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тепло и нежно отражался в русской душе Суровцова невесёлый русский пейзаж. Суровцов чувствовал, что он давно живёт в его душе, давно укоренился в ней, как в родном гнезде, прежде, чем мысль его стала понимать и разбирать то, что видела вокруг.
Да, всё это его собственное, его вскормившее, им вскормленное. Худо ли, хорошо ли, он любит его и тянется к нему, болит за него, как за своё тело, может быть, и хилое, может быть, и некрасивое, но всё-таки его собственное, его единственное тело. И какое-то тоскливое, неясное «жаль» стоит в душе среди этой теплоты настроения; то самое «жаль», что бесконечною ноющею струёю стелется по необозримому оржаному русскому полю в широкой и унылой, как поле, русской песне:
…Сторона моя, сторонушка!..
Разве человеку не бывает жаль себя ещё больше, чем бывает жаль другого? Русский пейзаж, русская природа воспитывают терпение.
Избы, избы, всё избы! Навозного цвета, навозом покрытые, навозом задавленные. Едешь пустыми безлюдными полями, без холма, без оврага, десятки вёрст, и вот наезжаешь, будто на сплошные гнёзда печериц, тесно скучивших свои тёмные хилые шапочки, только что вынырнувшие из навоза. Это пошли по речке русские сёла, пошли мужицкие избы. Преют, как грибы, и прячутся, как грибы. Склоны рек обрастают сёлами, как травою. Скажешь, их строит не свободная воля, не выбор человека, а роковая физическая необходимость, выгоняющая из земных недр леса и травы. Выросли, где нужно, и всё тут! Уйти никто не смеет, давятся сами, давят друг друга, а все выпирают из одного места, все лезут к одному, к струе воды, к зелени луга. Чем больше их, тем хуже. Борьба за существование идёт с ожесточением, незаметным, но несомненным и неизбежным. Всякая сила вырастает на трупах соседей, которых она одолела в этой безмолвной, упорной борьбе.
«Удивительная вещь эта изба! — думалось Суровцову. — Она всё; ею начинается, ею кончается всякий шаг нашей общественной жизни. Оттого-то так сильна она, так цепка, так живуча. Её ничем не сокрушишь; она прошла скифов и северян, прошла удельные распри, прошла татар, прошла царей московских, прошла воров литовских, прошла капитан-исправников и земские суды. Она выгорала, она голодала, она «ходила врознь», и всё-таки она до сих пор обсыпает каждую речку, каждый болотный ручеёк российского царства, как те неприхотливые и незатейливые цветы какой-нибудь «куриной слепоты», которые каждую весну, несмотря ни на что, яркими букетами одевают трясины чернозёмных берегов.
За всех и на всех платит, за всех и на всех работает русская изба. Она одна издревле тянет тяжкое тягло всей нашей исторической жизни. Её, как выносливую мужицкую клячу, никогда не выпрягают из хомута, потому что она всегда везёт, и никогда не кормят ничем, кроме соломки, потому что они с неё жива. А посчитать, — думал Суровцов, — за что только не отвечает мужицкая изба! Она бесконечными невидными глазу сетями проникает внутрь каждого общественного органа, как те сети волосных сосудов, которыми питается наше тело, и там, в безвестной глубине, сосёт и роется. не зная отдыха, чтобы добыть питательный сок красивым крупным членам, действующим во имя всех. Изба несёт на себе кучу забот и работ; но она все их выносит и доносит, куда нужно. Она одевает голого в тулуп, обувает босого в лапти, согревает от морозов, кормит голодные рты, большие и малые, она вырывает сохою хлеб из грязи, прогладывает дороги, перекидывает мосты, строит города, идёт грудью защищать свою родину. Она всегда цела и крепка, и у неё всегда всё есть. Можно содрогнуться, что она довольствуется таким скудным «всем», но всё-таки у неё есть всё, что ей насущно необходимо: есть рубаха для лета и шуба для зимы, коса для сена, соха для пашни, лошадь для сохи, ведро для воды, топор для дерева. Она оснащена плохо, но полно. Она не знает кредита, не знает помощи, и всё достаёт своими одинокими усилиями. Долгов у неё нет, потому что никто не даст ей в долг.
«Изба, — думалось Суровцову, — пристыдит этим наши барские хоромы. Посмотрите на них и сравните с избою: там столько невероятной практичности, столько непобедимой устойчивости; тут — расшатанность, бессилие, недодуманность. Необходимого нет, ненужного много; никакого ясного пониманья своих целей, своих прав и обязанностей. Оценка своих сил легкомысленна до ребячества. Когда глядишь на избы, видишь, что они скверны, но что они несокрушимы; когда глядишь на барские усадьбы, видишь ясно, что им несдобровать, что они существуют по какому-то недоразумению, что у них нет условий для существования. Точно они дорогие растения, не акклиматизировавшиеся в нашей почве, которые сами по себе и лучше наших доморощенных, но не могут вынести суровых условий климата и потому умирают там, где грубые доморощенные растения цветут и плодятся. Хоромы всегда в долгах, в хоромах всегда видны те или другие прорехи. Их тулуп и лапти красивее, но они не хватают на всех; их соха сложнее и выгоднее, но купить её недостаёт сил. Хоромам всегда недостаёт многого, как бы много ни поглощали они. Их специальное неумение — вести хозяйство; обычный их метод действий в том, чтобы постоянно тратить хотя одним пятаком более того, что получается, так что дефицит, большой или маленький, есть для них закон природы».
Два типа помещичьих усадеб попадались Суровцову во время его странствований по Шишовскому уезду: большинство были разорены, как после француза, со всеми признаками внутреннего бессилия наружу — покривившиеся стены, подгнившие столбы, пробитые крыши, рассыпавшиеся заборы. Сады заросли и переплелись, как дикий терновник, мельницы еле колотят чуть сбитыми колёсами; проедет бочка — у бочки рассыпано колесо, рассохнулись обручи; выведут лошадь — лошадь хромает, в навозе вся. Краски слезли, штукатурка осыпалась, что не должно зарастать — заросло, что должно зарасти — голо.
Правда, Суровцов знал, что из хозяев этих преющих усадеб есть люди с деньгою, но это ничего не изменяло в судьбе их. Они, во всяком случае, шил к своему концу.
Встречался, хотя реже, другой тип: всё ново, поддержано, почищено; крыши крашеные, решётки крашеные, даже телеги и бочки крашеные; сараи набиты выписными машинами, тысячи убиты на огромные постройки — на бесконечные риги, на амбары для хлеба, который продаётся почти на корню. Всё разом заведено и накуплено, но так же разом, знал Суровцов, и остановится всё. Примется сгоряча модный хозяин, разъехавшийся откуда-нибудь из Питера, показывать соседям, как нужно хозяйничать; знает, что прежде всего необходим оборотный капитал, и хватит под залог имение, чтобы накупить жней, сеялок и веялок, с которыми не умеет работать ни он сам, никто в его имении. Залезет в долги по самые уши, потом вдруг расчухает, что это за штука — хозяйство, чего оно требует, — испугается собственной удали и так же сплеча удерёт из деревни назад в Петербург, продав имение первому попавшемуся охотнику. Правда, некоторые смельчаки ещё вертятся в беличьем колесе, ещё не сбежали с своего поста, ещё красят крыши и выписывают сушилки. Но вопрос только во времени, когда наступит их очерёдь; они храбрятся потому, что не пришёл их час. Скоро и на них нападёт страх, и они ударятся невесть куда, вслед за прочими, а Силай Лапоть пошлёт в барскую вотчину своего «малого» нагуливать овцу, «рощи сводить», да открыть «оптовый склад» в каменном барском манеже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: