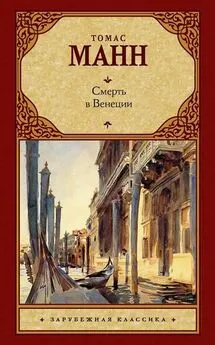Томас Манн - Доктор Фаустус
- Название:Доктор Фаустус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079197-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Манн - Доктор Фаустус краткое содержание
«Доктор Фаустус» (1943 г.) — ключевое произведение Томаса Манна и одна из самых значительных книг ХХ века. Старая немецкая легенда о докторе Иоганне Фаустусе, продавшем душу дьяволу не за деньги или славу, а за абсолютное знание, под пером Томаса Манна обретает черты таинственного романа-притчи о молодом талантливом композиторе Леверкюне, который то ли наяву, то ли в воображении заключил сходную сделку с Тьмой: каждый, кого полюбит Леверкюн, погибнет, а гениальность его не принесет людям ничего, кроме несчастий.
Новая, отредактированная версия классического перевода с немецкого Соломона Апта и Наталии Ман.
Доктор Фаустус - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для меня наш разговор был настоящей жертвой. Он продолжался два часа, и требовалась изрядная доля самоотрицания, человеческого участия, дружелюбия и доброй воли, чтобы его вынести. Инеса, казалось, тоже это сознавала, но странное дело: ее благодарность за терпение, время, нервную энергию, ей уделенные, была, я отлично это видел, усложнена какой-то злобной удовлетворенностью, злорадством, которое подчас выдавала ее загадочная улыбка и думая о котором я и сейчас еще удивляюсь, как мог я все это выдержать.
И в самом деле, мы сидели до тех пор, пока не вернулся Инститорис, игравший в «Аллотриа» в тарокк со знакомыми. В его глазах мелькнула смущенная догадка, когда он застал нас еще вдвоем. Он поблагодарил меня за дружескую замену, и, вторично с ним поздоровавшись, я уже не стал садиться. Я поцеловал хозяйке руку и, измученный, наполовину раздосадованный, наполовину потрясенный, побрел по вымершим улицам в свое пристанище.
XXXIII
Время, о котором я пишу, было для нас, немцев, эрой государственного краха, капитуляции, исступленной усталости, беспомощной покорности чужестранцам. Время, в которое я пишу, которое должно служить мне для того, чтобы в тихом одиночестве запечатлеть на бумаге эти воспоминания, несет в своем безобразно раздувшемся чреве такую национальную катастрофу, что в сравнении с ней тогдашнее поражение кажется мелкой неудачей, разумной ликвидацией обанкротившегося предприятия. Позорный провал — все же нечто иное, более нормальное, чем кара, которая над нами нависла, которая пала когда-то на Содом и Гоморру и которую мы в тот первый раз все-таки не накликали на свою голову.
Что кара приближается, что ее давно уже нельзя отвратить, — в этом, я думаю, ни у кого нет ни малейшего сомнения. Монсеньор Хинтерпфертнер и я, конечно, больше уже не одиноки в своем ужасном и вместе с тем — Боже, помоги нам! — тайно окрыляющем знании. То, что оно погребено в безмолвии, само по себе кошмарно. Ибо если жутко присутствие среди великой массы слепцов считанных ясновидцев с печатью на устах, то еще ужаснее, по-моему, когда все всё уже знают, но обречены на молчание и каждый видит правду в прячущихся или испуганно расширившихся глазах другого.
Пока я прилежно, изо дня в день, в тихом и постоянном волнении старался справиться со своей биографической задачей и дать достойное воплощение интимному и личному, во внешнем мире своим чередом шло то, что должно было произойти и что принадлежит времени, в которое я пишу. Вторжение во Францию, давно уже считавшееся возможным, свершилось — тщательнейше подготовленная военно-техническая операция высшего, или вообще неслыханного дотоле, разряда, в осуществлении каковой тем труднее было помешать врагу, что мы не отваживались сосредоточить свои оборонительные силы в одном-единственном пункте высадки, не зная, много ли намечено таких пунктов и не следует ли ждать еще другого нападения. Напрасна и гибельна была наша мнительность, — высадились они здесь. И вскоре на побережье появилось столько войск, танков, орудий и всякого снаряжения, что мы уже не способны были сбросить все это в море. Шербур, где порт, как мы вправе надеяться, приведен в полную негодность немецким инженерным искусством, после героических радиограмм, посланных фюреру командовавшими там генералом и адмиралом, капитулировал, и уже несколько дней идет ожесточенная битва за нормандский город Кан, — битва, по сути дела, если наши опасения оправдаются, открывающая уже путь к французской столице, к этому Парижу, которому при новом порядке была уготована роль европейского Луна-парка и публичного дома и в котором ныне, с трудом обуздываемое объединенными усилиями нашей государственной полиции и ее французских сотрудников, смело поднимает голову Сопротивление.
Да, много событий вторглось в мои одинокие занятия, а я ничего не замечал. Уже через несколько дней после поразительной высадки в Нормандии на сцене западного театра войны появилось наше новое оружие мести, о котором уже неоднократно, с сердечной радостью говорил наш фюрер: бомба-робот, изумительное боевое средство, из тех, что только нужда и открывает изобретательскому гению, — эти автоматические крылатые гонцы разрушения, в обилии запускаемые с французского берега, взрывающиеся над Южной Англией и, если мы не заблуждаемся, ставшие в короткий срок сущей бедой для врага. Смогут ли они, однако, предотвратить что-либо серьезное? Судьба не дала нам вовремя закончить необходимые установки, чтобы помешать вторжению и приостановить его летающими снарядами. Между тем пишут о падении Перуджи, которая, говоря между нами, находится на полпути между Римом и Флоренцией; уже поговаривают даже о стратегическом плане, предусматривающем полный вывод наших войск с Апеннинского полуострова, — наверное, чтобы высвободить силы для тяжелых оборонительных боев на Востоке, куда, однако, наши солдаты ни за что не хотят ехать. Там катится волна русского наступления, уже захлестнувшая Витебск и угрожающая Минску, белорусской столице, после падения которой, как утверждает наше «бюро слухов», на Востоке мы тоже не удержимся.
Не удержимся! Душа, не думай об этом ужасе! Бойся представить себе, что это будет, если при таком неслыханно гибельном положении, как наше, прорвутся плотины — а они вот-вот прорвутся — и не станет препон сдержать порыв ненависти, которую мы сумели разжечь у соседних народов! Правда, разрушение наших городов с воздуха давно уже сделало Германию ареной войны; и все-таки мысль, что она станет ею воистину, кажется нам непостижимой, недопустимой, и наша пропаганда усвоила странную манеру предостерегать врага от посягновения на нашу землю, священную немецкую землю, как от какого-то чудовищного злодеяния… Священная немецкая земля! Как будто на ней осталось еще что-то святое, как будто она давно уже сплошь не осквернена бесчисленными беззакониями и морально, да и фактически не подлежит суду и расправе. Да свершится же это! Не на что больше надеяться, и нечего больше желать. Призыв к миру с англосаксами, предложение бороться только с сарматским нашествием, стремление как-то смягчить требование безоговорочной капитуляции, то есть начать переговоры, — спрашивается, с кем? — это нелепейшая бессмыслица, это увертка режима, который не хочет уразуметь и, видимо, и сейчас еще не понимает, что приговор ему вынесен, что он должен исчезнуть, что проклятие лежит на нем, ибо, ненавистный миру, он сделал ему ненавистными и нас, Германию, наше государство, скажу больше: всех немцев и все немецкое.
Вот фон моих биографических занятий в настоящее время. Полагаю, что снова обязан обрисовать все это читателю. Что касается фона самого моего повествования в момент, до которого оно доведено, то в начале текущей главы я обрисовал его выражением «покорность чужестранцам». «Ужасно покориться чужестранцам» — эти слова выношены и выстраданы мною в те дни капитуляции и краха; ибо, несмотря на универсализм, внесенный в мое мироощущение католической традицией, я, как немец, тонко чувствую национальное своеобразие, характерную самобытность моей страны, ее, так сказать, идею, которая, будучи одним из преломлений общечеловеческого, утверждает себя в противовес другим, несомненно, равноправным его разновидностям, и способна утверждать себя лишь при условии признания извне и под защитой стойкой государственности. Новоявленный ужас военного разгрома состоит в подавлении нашей национальной идеи, в физическом вытеснении ее некоей, зависящей прежде всего и от языка, чужой идеологией, в полной ее подвластности таковой, от которой, именно потому, что она чужая, ничего хорошего для нашей своеобычности ждать не приходится. Этот ужас разгромленные французы изведали в прошлый раз, когда их посредники, чтобы смягчить условия победителя, очень высоко оценили славу — la gloire — вступление наших войск в Париж, а немецкий политический деятель возразил им, что слова «gloire» или какого-либо эквивалента его в нашем словаре нет. В 1870 году об этом говорили во французской палате испуганно приглушенным тоном, боязливо пытаясь выяснить, что же это значит — сдаться на милость врага, у которого не существует понятия gloire.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
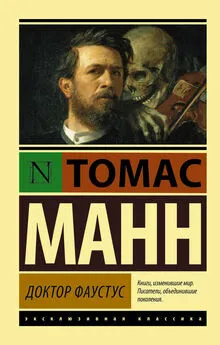


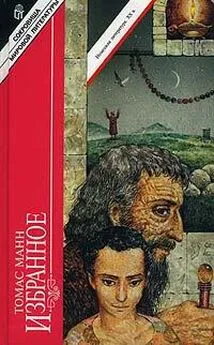
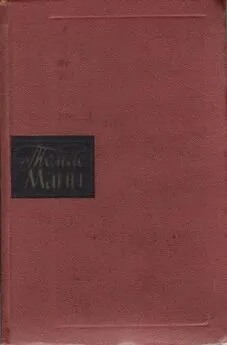
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)