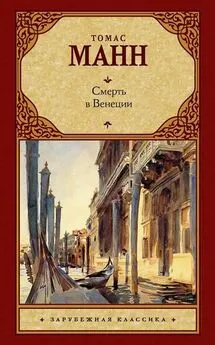Томас Манн - Доктор Фаустус
- Название:Доктор Фаустус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079197-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Манн - Доктор Фаустус краткое содержание
«Доктор Фаустус» (1943 г.) — ключевое произведение Томаса Манна и одна из самых значительных книг ХХ века. Старая немецкая легенда о докторе Иоганне Фаустусе, продавшем душу дьяволу не за деньги или славу, а за абсолютное знание, под пером Томаса Манна обретает черты таинственного романа-притчи о молодом талантливом композиторе Леверкюне, который то ли наяву, то ли в воображении заключил сходную сделку с Тьмой: каждый, кого полюбит Леверкюн, погибнет, а гениальность его не принесет людям ничего, кроме несчастий.
Новая, отредактированная версия классического перевода с немецкого Соломона Апта и Наталии Ман.
Доктор Фаустус - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я бы, конечно, не стал подробно распространяться об этом буколическом детстве, о простых декорациях, в которых оно протекало, — поле, лес, пруд и пригорки, — если бы в этом раннем мирке Адриана, в его отчем доме и среди окрестной природы, мы с ним так часто не оставались вдвоем. Это было время, когда зародилось наше «ты», когда не только я его, но и он меня называл просто по имени. Сейчас мне уже не помнится, как это было, но ведь нельзя предположить, чтобы шести— или восьмилетний мальчуган не говорил мне просто «Серенус» или даже «Серен» в ответ на мое «Адри». Я не помню точно когда, но, кажется, в самые первые школьные годы он уже перестал доставлять мне эту радость, и если вообще окликал меня, то обязательно по фамилии; мне же казалось грубым, даже немыслимым платить ему тем же. Да, так оно было, — пусть, впрочем, никто не думает, будто я жалуюсь. Мне только кажется важным упомянуть, что я звал его Адрианом, а он или вовсе обходил обращение по имени, или же называл меня «Цейтблом». Но довольно об этом курьезе, к которому я, кстати сказать, совсем привык, и вернемся снова на хутор Бюхель!
У него, да и у меня тоже, был там закадычный друг — дворовый пес Зузо, — как ни странно, но так он именовался, — собака довольно ободранная, которая смеялась во всю пасть, когда ей приносили еду, но для чужих была отнюдь не безопасна. Она вела унылое существованье цепного пса, весь день сидела возле своих мисок и конуры и только ночью свободно гоняла по двору. Вдвоем с Адрианом мы заглядывали в грязную тесноту свинарника и, вспоминая слышанные на кухне истории, — будто эти неопрятные существа с хитренькими голубыми глазками, смотрящими из-под белесых ресниц, и жирными телами цвета человеческого тела иногда пожирают детей, — поневоле начинали подражать их языку, их глухим хрюкающим голосам и не могли отвести глаз от розового потомства только что опоросившейся свиньи, так и кишевшего у ее сосков. Вместе потешались мы над педантической, полной размеренно-достойных звуков, вдруг переходивших в форменную истерику, жизнью куриного племени за проволочной сеткой курятника и вместе же наносили, весьма, впрочем, краткие, визиты пчелам на пчельнике позади дома, так как слишком хорошо знали пусть не столь уж нестерпимую, но оглушительную боль, стоило одной из этих собирательниц сладости вдруг сесть тебе на нос, по глупости решив, что этот предмет необходимо ужалить.
Помню я также смородину в огороде и то, как мы ели ее кисточки, медленно вытягивая из сжатых губ уже объеденный стерженек, помню, каковы на вкус полевая кислица и многие другие цветы, — мы наловчились высасывать из них крохотные капельки нектара, — помню желуди в лесу, которые мы разгрызали, лежа на спине, а также пурпурную, нагретую солнцем ежевику — она росла вдоль дороги, и ее терпкий сок хорошо утолял жажду. Мы были детьми — и не в силу пустой сентиментальности трогает меня этот загляд в прошлое, а только в силу раздумий о нем, о его судьбе, о том, что ему было предначертано из долины чистоты подняться до высот пустынных и страшных. Это была жизнь художника, и так как мне, простому человеку, суждено было близко наблюдать ее, то все мое душевное сочувствие к людям и людским судьбам сосредоточилось на этой особой форме человеческой жизни. Для меня благодаря моей дружбе с Адрианом жизнь художника стала парадигмой формирования всех судеб, классическим поводом для глубокой взволнованности тем, что зовется становлением, развитием, предназначенностью, — да такова она, должно быть, и есть. Хотя художник всю жизнь остается ближе к своему детству, чтобы не сказать — более верным ему, чем человек, поднаторевший в практической деятельности, хотя он, в противоположность практику, можно смело сказать, куда дольше пребывает в чисто человеческом, задорно-радостном состоянии мечтателя-ребенка, его путь от нетронутого младенчества до поздних непредвиденных фаз становления бесконечно сложней, извилистей и для наблюдателя куда страшней, чем путь заурядного человека, для которого утрата детства, конечно, не так болезненна.
Мне приходится убедительно просить читателя все, что, может быть, с излишним чувством сказано здесь, отнести за счет пишущего эти строки и никак не думать, что я говорю это в духе Леверкюна. Я человек старомодный, застрявший на некоторых милых мне романтических представлениях, к которым относится и трагическая противопоставленность художника обыкновенному человеку. Адриан, уж конечно, холодно опроверг бы эти слова, — если бы вообще взял на себя труд опровергать их. Об искусстве и жизни в искусстве он судил в высшей степени трезво, резко, даже уничижительно, и к «романтическому тру-ту-ту», в свое время поднятому вокруг искусства, относился с таким недоброжелательством, что едва терпел, когда подобные речи велись в его присутствии, — это было видно по его лицу. То же самое и со словом «вдохновение»; при нем лучше было говорить «удачная мысль». Он ненавидел это слово, всячески над ним издевался, и даже сейчас, вспомнив об этой ненависти и издевке, я невольно снимаю руку с листа промокательной бумаги на моем столе, чтобы прикрыть ею глаза. Слишком много муки было в этой ненависти, чтобы считать ее просто порождением времени и моды. Впрочем, мода здесь тоже играла известную роль, я помню, как он, еще студентом, однажды сказал мне, что девятнадцатое столетие было, наверное, на редкость уютной эпохой, ибо человечество никогда с такой горечью не расставалось с воззрениями и привычками прошлого, как в наше время.
Вскользь я уже упоминал о пруде, окруженном плакучими ивами, всего в десяти минутах ходьбы от Бюхеля. Он звался «Коровьим Корытом», отчасти из-за своей вытянутой формы, отчасти же потому, что коровы приходили туда на водопой. Вода в этом пруду почему-то была колюче-холодной, купаться в нем мы решались разве что в послеполуденные часы, когда ее уже основательно прогрело солнцем. Но если идти к пруду не напрямки, а дорогой, взбиравшейся на пригорок, то это была приятная прогулка, длившаяся уже добрых полчаса.
Пригорок этот назывался, наверное, с очень давних времен и совсем неподходяще, «горой Сионом». Зимою, когда я редко бывал в Бюхеле, с него хорошо было кататься на салазках, летом же с его «вершины», где в тени раскидистых кленов на мирской счет была сооружена удобная скамейка, открывалась широкая панорама, которою, в вечерние часы перед ужином, мы нередко любовались вместе со всем семейством Леверкюнов.
Здесь я вынужден сделать одно примечание: та рамка, и в смысле пейзажа, и в смысле домашнего обихода, в которую Адриан позднее, уже зрелым человеком, вставил, если можно так выразиться, свою жизнь, поселившись у Швейгештилей в Пфейферинге, в Верхней Баварии, удивительно напоминала, даже повторяла все, что окружало его в детстве. Иными словами, зрелая его жизнь протекала в обстановке, курьезнейшим образом воссоздавшей обстановку его ранней поры. Мало того, что вблизи Пфейферинга высился пригорок с «мирской» скамейкой, правда, называвшийся не «горой Сионом», а «Римским холмом», и на таком же примерно расстоянии от хутора, как Коровье Корыто, находился пруд, называвшийся «Круглый Колодец», с на редкость студеной водой, но весь дом, двор и семейные взаимоотношения до странности точно воспроизводили Бюхель. На дворе Пфейферинга росло дерево, тоже мешавшее проезду и тоже сохраняемое из соображений уюта и по привычке, — только это была не липа, а раскидистый вяз. Надо, впрочем, сказать, что по архитектуре дом в Пфейферинге разительно отличался от леверкюновского дома, ибо это было старое монастырское строение с толстыми стенами, глубоко сидящими сводчатыми окнами и переходами, в которых попахивало плесенью. Но крепкий табак хозяйской трубки, как и там, насквозь пропитывал воздух нижних комнат; хозяин и его хозяйка, фрау Швейгештиль, исполняли роль «родителей»; он был длиннолицый, скорее молчаливый, рассудительно-спокойный земледелец, она — тоже уже в летах, немного, пожалуй, слишком пышная, но очень пропорциональная гармоничная женщина, со стройными руками и ногами, всегда гладко причесанная, живая и энергичная; был у них и взрослый сын-наследник по имени Гереон (а не Георг), в хозяйственном отношении весьма прогрессивно мыслящий молодой человек, увлекавшийся новейшими сельскохозяйственными машинами, и дочка Клементина, значительно моложе его. Дворовый пес в Пфейферинге тоже умел смеяться, хотя первоначально звался не Зузо, а Кашперль, — первоначально потому, что на этот счет у жильца Швейгештилей имелось свое мнение, и я был очевидцем того, как под его влиянием кличка Кашперль мало-помалу превратилась в воспоминание и собака сама уже охотнее откликалась на имя Зузо. Второго сына в Пфейферинге не было, отчего, по-моему, сходство только увеличивалось, а не уменьшалось; ибо кем же был бы сей второй сын?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
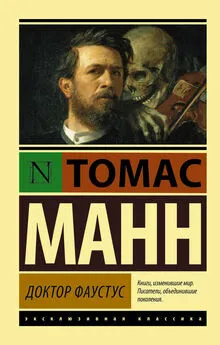
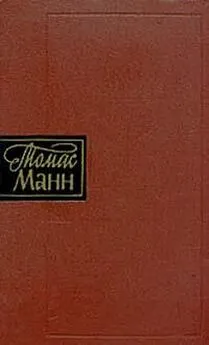

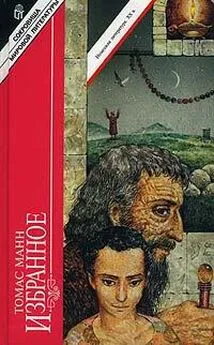

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)