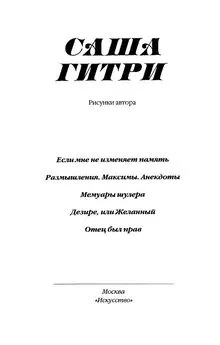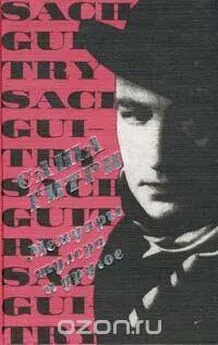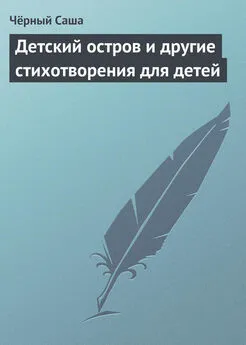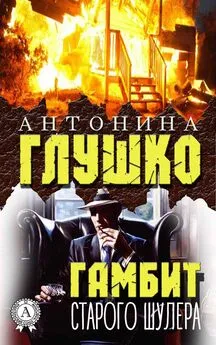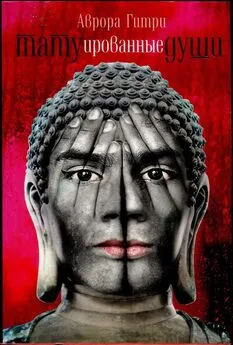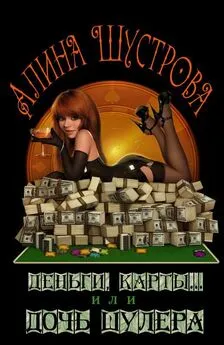Саша Гитри - «Мемуары шулера» и другое
- Название:«Мемуары шулера» и другое
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-210-01402-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Саша Гитри - «Мемуары шулера» и другое краткое содержание
Сашá Гитри (1885—1957) — легенда французского театра и кино первой половины XX века. Драматург, актёр, режиссёр, прозаик, художник, — он был некоронованным Королём Больших бульваров. Его любили за блистательный юмор, проницательность, тонкий психологизм и житейскую мудрость, лишённую назидательности. Его пьесы, а их около 120, как и его проза, написаны мастером изящной словесности; легко с чисто парижской элегантностью.
В сборник, который впервые знакомит отечественного читателя с литературным творчеством Саша Гитри, включены: самый известный его роман «Мемуары шулера», автобиография, афоризмы и анекдоты и две знаменитые комедии «Дезире» и «Отец был прав». Книга проиллюстрирована рисунками Саша Гитри.
«Мемуары шулера» и другое - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Хватит, довольно, — кричал тут месьё Гранден, — убирайся отсюда вон!
— Это не мне убираться, этой твоей шлюхе пора вон... — и так далее и тому подобное.
Само собой, при подобных сценах мы отнюдь не задыхались от пресловутого почтения, с каким нам полагалось относиться к своим наставникам.
Нам так и не суждено было узнать, чем всё завершилось между месьё и мадам Гранден, но лично я склонен думать, что конец оказался весьма печальным, ибо однажды утром, в понедельник, двери школы оказались закрыты.
Последний
Мой последний пансион, двенадцатый по счёту, находился в доме номер 77 по улице Дам. Во главе его стоял месьё Пракс. Он был милейшим человеком. Уступил мне свою комнату, и в его заведении я пользовался известной свободой. Коей наслаждался вволю, а порой и злоупотреблял без меры. Ведь мне в ту пору было семнадцать лет!
Столовался я частенько в городе, учёбой вовсе пренебрегал, и случалось, возвращался поздней ночью или ранним утром.
Месьё Пракс смотрел на это сквозь пальцы в течение нескольких месяцев, однако пришёл день, когда терпение его лопнуло, и он счёл своим долгом оповестить о моих проделках отца.
Люсьен Гитри в ту пору возглавлял театр «Ренессанс» и играл там в пьесе «Шатлен». С тех пор уже тридцать два года минуло. Короче, однажды вечером господин Пракс стучится в дверь отцовской артистической уборной, входит и заявляет:
— Послушайте, месьё, у меня есть намерение исключить вашего уважаемого сына из нашей школы... но увы!.. никак не могу этого сделать.
— Отчего же? — удивился отец. — Коли вы не можете держать его долее у себя, тем хуже, что поделаешь, выставьте его за дверь!
— Но это никак невозможно, месьё. Я не могу выставить его за дверь... Ведь вот уже пять дней, как он не показывался в пансионе!
Вот так я наконец-то закончил своё обучение — так ничему и не научившись.
Размышления, на которые навели меня мои двенадцать пансионов
Родители не могут не отдавать своих детей в коллежи: во-первых, это их святая обязанность, но главное, без этого никак нельзя обойтись. Ведь согласитесь, просто необходимо научить нас с младых ногтей уживаться с себе подобными.
Ладно, не спорю, но главная беда в том, что нас там вовсе не учат жить, вовсе не готовят к жизни — и уж совсем преступление не сказать нам прежде всех прочих вещей, что работа есть величайшая радость жизни.
Вбей они нам с самого детства в голову, что от выбора профессии прямо зависит наше счастье, мы прилагали бы куда больше стараний и выбирали бы его, наше будущее ремесло, с бесконечной тщательностью.
Мы называем отдыхом время, когда не работаем — какое заблуждение. Ведь ничто не должно быть для нас более приятным занятием, более полным отдыхом, чем работа. Уроки должны быть захватывающе увлекательными. Да хотя бы только для этого, повторю ещё раз, нужны преподаватели увлечённые, убеждённые в величии своей миссии, а не жалкие бедолаги, как правило, не блещущие никакими талантами, а зачастую и вовсе заурядней не придумаешь.
Спору нет, эти люди должны быть широко образованными — но этого мало. Уверенности в себе, в благородстве своей миссии, вот чего им не хватает.
И потом, не в таких унылых классных комнатах с холодными серыми стенами следует проводить уроки. Нет, они должны проходить в просторных библиотеках — и право выбирать книги по своему вкусу должно стать наивысшей наградой, какой может быть удостоен ученик.
И я мечтаю о преподавателе, который бы сказал ученику:
— Вы вели себя недостаточно благоразумно. И в наказание я не разрешаю вам присутствовать на уроке.
Ещё в юном возрасте я задавал себе вопрос, зачем наши школьные наставники упорно желают заставить нас вызубрить наизусть то, что написано в книгах. Я думал про себя: «Коли это уже напечатано, почему бы не довольствоваться тем, чтобы иметь под рукой книгу?»
А чего стоит эта бессмысленная идея заставить нас держать в голове названия главных городов всех департаментов и всех супрефектур.
Кому это надо?
Зачем, ведь всё равно никто никогда этого не запомнит.
А ведь многие годы своего детства я только об этом и слышал! Меня больше не спрашивали, что у меня новенького, а интересовались, знаю ли я «мои» департаменты! Кстати, это притяжательное местоимение немало меня интриговало. Мне говорили, что я не знаю «моих» департаментов, а вот тот-то из моих однокашников уже знает «свои». Будто они у нас разные!
В конце концов меня почти убедили, что жизнь следует проводить, декламируя вслух названия департаментов — может, тогда, наконец, найдётся чудак, который будет знать их все назубок!
Было бы куда лучше, если бы нам разъяснили, в чём наши обязанности и каковы наши права, и в этом смысле Гражданский кодекс принёс бы нам куда больше пользы, чем зубрёжка департаментов!
Самое печальное, что время, которое нас заставляют терять впустую, мы теряем в самую драгоценную пору жизни. В ту пору, когда раскрывается наш интеллект, нас поручают заботам святых отцов, которые не знают жизни, или людям, у которых слишком много причин быть ею недовольными, чтобы заставить нас её полюбить.
Повторяю, уверен, что в возрасте между восьмью и четырнадцатью годами мы чрезвычайно умны, а после четырнадцати и до двадцати большинство из нас начинает глупеть, и весьма заметно.
Почему?
Да потому что, выйдя из коллежа, мы ничего не знаем о жизни, мы беспомощны, и по этой самой причине к восемнадцати годам мы совершаем столько глупостей.
Освободившись от семейного гнёта, избавившись от надзора школьных наставников, мы оказываемся совершенно безоружны, и даже если не поддаёмся влечению пагубных инстинктов, нас губят дурные знакомства — на время или навсегда!
Возможно, есть немало исключений, но таково моё твёрдое убеждение, и меня не переубедить.
Наши природные способности, особые дарования, всё, что есть в нас оригинального между восьмью и четырнадцатью, напрочь исчезает в восемнадцать.
Всё это может вернуться позже — но сколько времени потеряно впустую!
Если я позволяю себе критиковать систему образования, то прежде всего из соображений морального толка.
По-моему, с детьми слишком много говорят о прошлом и совсем мало о будущем — иными словами, чересчур много о других и недостаточно о них самих. Мораль преподаётся им по старинным текстам, на языке, которому не хватает ясности, — а предлагаемые примеры для подражания плохи, ибо им никак невозможно следовать.
Жанна д’Арк, Байяр, Сен-Венсан-де-Поль — это уж слишком! И чересчур далеко от нас. Подобные примеры хоть кого обескуражат.
Не желая разбирать школьную программу по косточкам — что было бы совсем не трудно, но уж очень скучно, — позволю себе обратить ваше внимание на одну вещь, что разъяснит вам, читатель, суть моей мысли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: