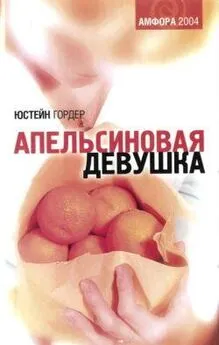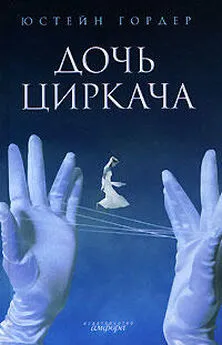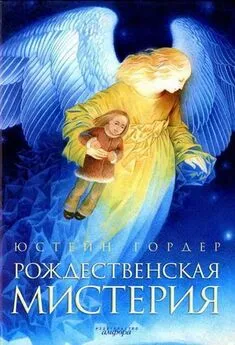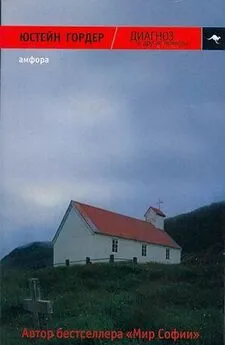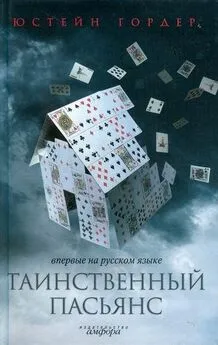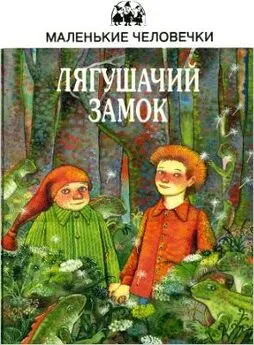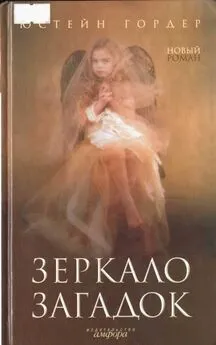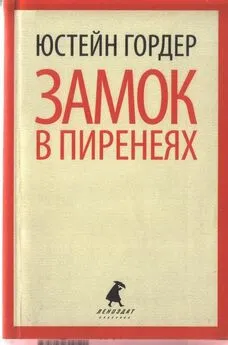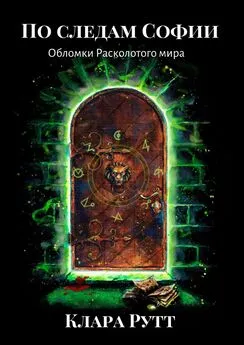Юстейн Гордер - Мир Софии
- Название:Мир Софии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТИД «Амфора»
- Год:2006
- Город:СПб.
- ISBN:5-367-00030-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юстейн Гордер - Мир Софии краткое содержание
Книга норвежского писателя Юстейна Гордера адресована прежде всего детям, но будет интересна и взрослым. Это захватывающий рассказ о таком сложном предмете, как философия. История мировой мысли предстает здесь как череда неожиданных открытий, которые совершает главная героиня — девочка по имени София, — получая письма от незнакомого, загадочного философа.
Мир Софии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Еще бы.
— Итак, нужно различать чисто философскую проблему существования Бога и отношение к ней конкретной личности. Перед такими вопросами каждый человек оказывается наедине с самим собой. Кроме того, к решению столь важных вопросов можно подходить только с верой. По Киркегору, вещи, которые мы постигаем разумом, обычно куда менее существенны.
— А вот это я попрошу разъяснить.
— Например, 8 + 4 = 12. Это нам известно совершенно точно, София. И это одна из так называемых «логических истин», о которых говорили все философы после Декарта. Но станем ли мы упоминать ее в вечерней молитве? Вспомним ли мы о ней, когда подойдет наш смертный час? Нет. Возможно, такие истины «объективны» и «всеобщи», однако именно поэтому они не играют ни малейшей роли в жизни конкретного человека.
— А вера?
— Ты не можешь точно знать, простили ли тебе дурацкий поступок, но именно этот вопрос принципиален, экзистенциально важен для тебя. Не можешь ты и сказать наверняка, любит ли тебя другой человек, а это для тебя гораздо важнее теоремы Пифагора. Разве на первом свидании человек думает о «законе причинности» или «формах созерцания»?
— Действительно, это было бы глупо.
— Вера важна прежде всего в отношении религиозных вопросов, о чем Киркегор писал: «Если я могу объективно постичь Бога, я не верю, но именно потому, что это невозможно, я верю. И если я хочу сохранить свою веру, мне следует пребывать в объективном неведении — в таком неведении, как если бы подо мной была глубина в 70 000 саженей, а я все равно бы верил».
— Сложновато выражено.
— Раньше многие пытались доказать существование Бога или по крайней мере постичь его разумом. Но если тебя устраивают подобные доказательства, ты утрачиваешь веру, а вместе с ней — и религиозную искренность. Ведь главное не то, насколько истинно само христианство, а то, насколько оно истинно для меня. В средние века ту же мысль выражали формулой: «credo, quiaabsurdum»…
— Ну да?
— Что значит: «верю, потому что противоречит здравому смыслу». Если бы христианство взывало к здравому смыслу, а не к другим свойствам нашей натуры, речь не шла бы о вере.
— Это я уже сообразила.
— Итак, мы с тобой разобрались, что Киркегор разумел под «экзистенцией», что понимал под «субъективной истиной» и что вкладывал в понятие «веры». Все эти три понятия содержали у него критику философской традиции, в особенности Гегеля. Более того, в них заложена и «критика цивилизации». По Киркегору, в современном городе народ превратился в «толпу» или в «безответственную массу», проводящую время в ни к чему не обязывающей болтовне. Все «отстаивают» одно и то же, хотя на самом деле им все безразлично. Сегодня мы, наверное, назвали бы такое «конформизмом».
— Может, Киркегор имел в виду родителей Йорунн?
— Надо сказать, его отзывы о людях далеко не всегда безобидны. Киркегора отличало острое перо и язвительная ирония. Он мог, например, позволить себе такие колкости, как «мнение толпы заведомо ложно» или «правда всегда оказывается в меньшинстве», намекая на то, что народ в основном несерьезно относится к действительности.
— Одно дело — собирать коллекцию кукол, а другое — самой стать куклой вроде Барби…
— Вот мы и подошли к учению Киркегора о трех «стадиях жизненного пути».
— Как-как?
— Киркегор выделял три различных отношения к жизни, которые сам он называет стадиями: «эстетическую стадию», «этическую стадию» и «религиозную стадию». Употребляя слово «стадия», он хочет подчеркнуть, что можно жить на одной из низших ступеней и вдруг «перепрыгнуть» на более высокую. Но многие всю жизнь существуют на одной и той же «стадии».
— Осмелюсь подсказать, что пора бы дать объяснение. Кроме того, мне очень любопытно узнать, на какой стадии нахожусь я.
— Человек, находящийся на «эстетической стадии», живет сегодняшним днем и постоянно стремится к наслаждению. Для него хорошо все, что красиво, привлекательно или приятно. Такой человек целиком и полностью живет в мире чувств. Эстет становится рабом своих желаний и настроений. Плохо все, что скучно или неприятно.
— Да, это мне знакомо…
— Типичный романтик одновременно и типичный эстет. Ведь речь идет не только о чувственном наслаждении. На эстетической стадии живет и человек с несерьезным, игривым отношением к действительности — или, скажем, к искусству, или к философии, в области которых он (или она) работает. Даже горе и страсть можно воспринимать чисто эстетически, «отстраненно». Тут на первый план выдвигаются поверхностность и тщеславие. Типичного эстета представил Ибсен в образе Пера Гюнта.
— Мне кажется, я понимаю, о чем ты.
— Ты узнаёшь себя?
— Не совсем. По-моему, это больше похоже на майора.
— Может быть, София… Впрочем, это был очередной пример слащавой романтической иронии. Поставить бы тебя на горох за такие слова.
— Что-что?
— Ничего… ты не виновата.
— Тогда продолжай!
— Человек, живущий на эстетической стадии, подвержен страхам и чувству опустошенности. Но у него хотя бы появляется надежда. По мысли Киркегора, с трах — чувство едва ли не благотворное. Оно свидетельствует о наличии «экзистенциальной ситуации». Теперь эстет может сделать выбор — и «перескочить» на более высокую стадию. Но скачок либо удается, либо нет. Нельзя сделать полскачка, «почти допрыгнуть». Здесь вопрос стоит «или-или», причем никто не совершит этот прыжок вместо тебя. Ты должен сделать его сам.
— Это немного похоже на то, как бросают пить или употреблять наркотики.
— Возможно. Киркегор, описывающий эту «категорию решения», напоминает Сократа, утверждавшего, что подлинное понимание приходит изнутри. Изнутри должен прийти и выбор, который позволит человеку перескочить от эстетического мироощущения к этическому или религиозному. Это показано Ибсеном в «Пере Гюнте». Еще одно превосходное описание того, как экзистенциальный выбор порождается внутренней потребностью и отчаянием, есть у Достоевского в его великом романе о Раскольникове.
— Иначе говоря, в случае успеха человек выбирает новое отношение к жизни.
— Да, и начинает жить, скажем, на этической стадии, которая характеризуется серьезностью и последовательным выбором в соответствии с моральными критериями. Такое отношение к жизни отчасти напоминает Кантову этику долга. Человек старается жить по закону нравственности. Как и Кант, Киркегор прежде всего принимает во внимание умысел человека. Самое главное — не то, что он считает один поступок правильным, а другой неправильным. Самое главное — что он вообще решает действовать в соответствии с понятиями о «хорошем и дурном». Эстет различал только «веселое и скучное».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: